



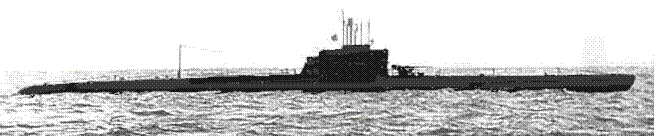
© Клубков Ю. М. 1997 год
|
|
  |
 |
|
|
© Клубков Ю. М. 1997 год |
|||
|
Первая часть воспоминаний Коли Лапцевича опубликована в Книге 4 Сборника воспоминаний «О времени и наших судьбах». Во второй части своих воспоминаний, помещённых в Книге 8, Николай Лапцевич рассказывает о периоде обучения в Ленинградском военно-морском подготовительном училище. Широко охватывая все стороны жизни в училище, он в то же время детально и подробно излагает особенности воспитательного процесса в начальном военно-морском учебном заведении. Много внимания он уделяет характеристикам преподавателей, командиров и начальников. Эти разделы его повествования представляют особую ценность для истории, поскольку, к сожалению, не все офицеры и преподаватели сохранились в памяти курсантов по фамилии, имени и отчеству. Не менее интересны образные оценки своих друзей-однокашников, с которыми постоянно жил и учился в тесном контакте в условиях казарменного положения. При этом Николай старается быть предельно объективным. Во всех его аттестациях звучит доброжелательность, внимание к человеку. Он старается смягчить негативные моменты в поведении своих сокурсников и не жалеет хороших слов для хороших людей. В описании политической ситуации того времени и её влиянии на мировоззрение курсантов, иногда проскальзывают современные критические взгляды. Однако тогда юноши-подготы, находясь под мощным прессом официальной пропаганды, не могли критически оценивать существовавшие порядки. А некоторые необдуманные суждения на эту тему заканчивались печально.
НИКОЛАЙ ЛАПЦЕВИЧ
ТОЧКА ОТСЧЁТА(автобиографические записки)
Часть вторая. УЧИЛИЩЕ
Трудный курс
Рубикон пройден
Память наша весьма своенравно производит отбор событий, достойных храниться в её кладовых. Но, как правило, наибольшее равнодушие проявляет она к жизненным явлениям, протекающим спокойно, плавно, не требующим чрезмерных усилий и эмоций, и особенно охоча до тяжёлых ударов или резких изломов судьбы. Связанные с ними дни в большинстве случаев без особого труда восстанавливаются воображением спустя даже не одно десятилетие. 29 июля 1946 года путь от дома до училища, ставший мне хорошо знакомым за время вступительных экзаменов, я совершал, словно впервые. Мной владели не испытанное до сих пор томительное ощущение безвозвратной потери родного гнезда, привычного жизненного уклада, и тревожное ожидание будущего, которое на первых порах определённо не сулило ничего хорошего. Заманчивые мечты о морской романтике отодвинулись далеко за горизонт. Обуреваемый этими чувствами, я сошёл с трамвая у перекрёстка 11-ой Красноармейской с Лермонтовским проспектом и не спеша двинулся в сторону Обводного канала. Небольшой переулок, последний перед каналом, выходящий на проспект точно против красивого памятника Лермонтову, должен был заменить для меня изученную до каждой подворотни «Каляевку», а расположенное на нём здание училища – стать моим домом на долгие годы. Конечно, не домом, думалось мне, а скорее приютом. К такому восприятию нового места располагали не только моё минорное настроение, но и название переулка – Приютский. О том, что между зданием, в котором размещалось училище, и названием переулка действительно существует прямая связь, я узнал много позже. В те времена факты, события, люди, не добавляющие напрямую своей сутью или жизнью желательных деталей в широко культивируемые тогда мифы (о героической борьбе трудящихся, коммунистической партии, её вождей за «новую жизнь» и тому подобном), как и прошлые свидетельства добросердечия, сострадания, подвижничества во имя ближнего отдельных людей, особенно богатых, тем более аристократов, не имели права на существование в официальной истории. Между тем, переулок, о котором идёт речь, своим названием был обязан приюту, существовавшему здесь задолго до революции во внушительном, строгом в своей простоте здании. Радением одного из наиболее выдающихся благотворителей России герцога П.Г. Ольденбургского, оно было построено в конце 19-го века специально для указанного богоугодного заведения. В советское время развернувшаяся борьба за «ликвидацию» Бога чуть ли не в первую очередь распространилась на созданные во славу Его социальные учреждения. Богадельни, приюты исчезли из нашей жизни. Добротное детище герцога изведало многих, но, к сожалению, не очень радивых хозяев. В блокаду в нём короткое время размещался госпиталь, пока причинённые обстрелами разрушения не сделали это невозможным. В 1943-м году сильно обветшавшее и повреждённое в период военного лихолетья строение определили под создаваемое Ленинградское военно-морское подготовительное училище (ЛВМПУ). Новым его обитателям пришлось параллельно с учёбой основательно участвовать в ремонтно-строительных работах. К сентябрю 1945-го года в относительный порядок были приведены лишь первые два этажа основного здания. К августу 1946-го положение улучшилось ненамного, к тому же при сильных дождях крыша всё ещё протекала. Перейдя свой Рубикон в виде деревянного, похожего на будку помещения КПП, я очутился на обширном плацу перед зданием училища. До дождей, похоже, было ещё далеко, лето цвело в разгаре. Ясное утро переходило в солнечный день, и его бескорыстное щедрое сияние сочувственно стремилось разогнать затаившуюся в душе насторожённость перед ожидающей меня незнакомой жизнью. Новоиспечённых курсантов временно размещали на втором этаже в спортзале, который находился непосредственно над центральным вестибюлем. Обширное светлое с паркетным полом помещение было уставлено двухъярусными металлическими койками. Сдвинутые попарно они образовывали блоки из четырех спальных мест. Располагавшиеся рядами вдоль зала блоки разделялись узкими проходами. В проходах у стенки и между спинками коек стояли одна на другой тумбочки. Часть коек уже имела постели, остальные тускло отсвечивали своими панцырными сетками. В зале находились ребята в гражданской одежде, видимо, поселившиеся здесь за прошлую неделю, а также «служба»: дежурный и дневальный – курсанты старшего курса. Старшекурсники были при полной форме: белая форменка с видневшейся в расходящемся вороте тельняшкой, чёрные суконные брюки, хромовые ботинки, бескозырка с ленточкой, на которой блестела золотом надпись: «ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ». На широком чёрном кожаном ремне, украшенном блестящей латунной пряжкой – «бляхой» с рельефными якорем и звездой, висел штык-нож в плоских ножнах. На левом рукаве виднелась синяя, с узкой белой полосой посредине, повязка. У дежурного, кроме того, на груди белым никелем блестел ещё один знак его официального статуса – плоская изогнутая боцманская дудка, подвешенная на заведённой под форменный воротник цепочке и укреплённая крючком за разрез форменки. Всё это вместе было не лишено своеобразного шика и смотрелось красиво. Шевельнулась приятная мысль, что теперь рано или поздно и меня не минует это великолепие. В стенах подготовительного училища нам предстояло за три года пройти 8-й, 9-й и 10-й классы общеобразовательной школы и получить начальную военно-морскую подготовку. Окончившие «Подготию» получали «Аттестат зрелости» (общегражданский документ, свидетельствующий о завершении среднего образования) и распределялись по военно-морским училищам. Зачисление туда «подготов» осуществлялось без сдачи вступительных экзаменов. В 1946-м году в ВМФ СССР было сравнительно небольшое число училищ, готовивших офицеров. Из них высшее образование своим выпускникам давали только два: Высшее Военно-Морское училище имени Фрунзе и Высшее Военно-Морское инженерное училище имени Дзержинского. Первое готовило корабельных офицеров широкого профиля, которые уже в процессе службы специализировались как штурмана, артиллеристы или минёры, а также офицеров-гидрографов. Второе – корабельных инженеров. Когда я изредка задумывался над тем, куда мне идти после окончания ЛВМПУ, то отдавал предпочтение «Дзержинке». Хотелось быть инженером. А из имеющихся там в то время факультетов – электротехническому. Кораблестроительный факультет, как мне казалось, сулил слишком много черчения, а я его не очень жаловал. Название же ещё одного – паросиловой – вызывало ассоциацию с паровозом, что мне тоже как-то не импонировало. С такими наивными, туманными и зыбкими представлениями о своей дальнейшей перспективе совершил я первый, но ответственейший жизненный шаг, практически определивший всю мою дальнейшую судьбу.
«Товарообмен»
Осматриваюсь, куда попал. Дней десять, а, возможно, и больше, нас не переодевали, видимо, поджидая, пока соберутся все вновь принятые. Тем не менее, следовать установленному в училище распорядку нам пришлось с первого дня. Поскольку этот важнейший атрибут воинского уклада определил наш жизненный ритм на длительное время вперёд, сразу приведу его основные параметры, опуская в некоторых случаях минуты. Подъём в 6 часов утра, завтрак в 8 часов, обед и отдых в 12-14 часов, ужин в 17 часов, вечерний чай в 21 час, отбой в 23 часа. Соответственно между этими временными вехами предусматривались: физзарядка на плацу (в сильные морозы – прогулка), приборка, утренний осмотр, занятия или работы (до ужина), самоподготовка и личное время, вечерняя прогулка и проверка. В воскресенье – выходной день. Подъём сдвигался на час вперёд, не предусматривались официально зарядка, занятия, работы и самоподготовка. Не занятые на службе и при этом не получившие в течение недели существенных замечаний могли рассчитывать на увольнение. Увольняли также и вечером в субботу. Отцы-командиры, правда, с первых дней приучали нас к мысли, что увольнение – это не право курсанта на отдых, а вид поощрения за усердие в службе. На такое «поощрение» мы, вновь принятые, получали право лишь с наступлением ноябрьских праздников (7 и 8 ноября – дни Октябрьской революции). До этого срока никаких увольнений в город (в военно-морских училищах было принято говорить: «увольнение на берег») категорически не допускалось. Эти первые дни мы были, в основном, предоставлены сами себе. Изредка, правда, какой-нибудь старшина из персонала училища заходил в наш просторный и всё более заполняющийся «кубрик», обращался к дежурному, и тот выделял пришедшему требуемое количество «рабочей силы». Процесс врастания в положение новобранцев-первогодков давался с трудом. Это и понятно в ситуации, когда все окружающие для тебя – потенциальные начальники, а твоей наивной доверчивостью любой мог воспользоваться, и далеко не всегда бескорыстно. Особенно это касалось попыток «экспроприации» у нас такого жестокого дефицита, каким являлись в те времена одежда и обувь. Насилие при этом почти не применялось. Приемы избавления нас от своих вещей основывались на понимании психологии новобранца, стремящегося не ударить в грязь лицом перед «бывалыми моряками». Мальчишески превратное представление о морской традиции взаимовыручки и доверия не позволяли нам проявлять заскорузлую «сухопутную» сквалыжность и подозрительность в ответ на их просьбы. Когда отдельные «старшие товарищи» приходили к нам в кубрик и, окинув цепким взглядом присутствующих, обращались к какому-нибудь обладателю приличного предмета одежды с просьбой одолжить рубашку, штаны или ботинки для похода в самоволку (мол, в городе одетого «по гражданке» не трогают патрули), отказов поначалу не было. Но чаще всего, взятые вещи владельцу не возвращались, а координаты взявшего (фамилия, номер класса и прочее) оказывались ложными. Поэтому довольно скоро этот способ перестал «работать». Остался менее вероломный приём: добровольный обмен добротной, но «гражданской» одежды на «военно-морскую». При этом следы ветхости последней владелец старался приукрасить «травлей» о штормах и походах, в каких побывала эта реликвия. И нельзя сказать, что без успеха. Меня по этому вопросу практически не беспокоили. Когда дома я собирался в училище, инстинкт человека, вещи которому достаются нелегко, подсказал не одевать на себя лучшее из имеемого. Немного, правда, я поколебался, раздумывая над ботинками: одна пара, которую маме удалось купить перед экзаменами, была почти новой, а предыдущая пара, хотя и имела приличный вид сверху, почти не сохранила подмёток. В конце концов, я обул старую пару, уложив предварительно на стельки бумагу. Поскольку погода стояла сухая, особых неудобств я не испытывал, тем более, что на первый взгляд отсутствие подошв не было заметно. Некоторые старшекурсники даже проявляли к моей обуви интерес, впрочем, сразу пропадавший, как только они заглядывали на ботинки снизу. Однажды после обеда я лежал на койке, мои ботинки, как и положено, аккуратно стояли у её ножки. В проходе вдруг возник небольшого роста щуплый курсант. В руках он держал пару яловых ботинок, довольно растоптанных, но чистых. Мы уже знали, что такая обувь выдаётся курсантам. Её официальное название – «рабочие ботинки», а неофициальное – «гады». Скользнув взглядом по моей обуви, пришедший присел на соседнюю койку со словами: – Махнёмся ботинками! Я приподнялся на локте и хотел сказать что-то поясняющее, но он опередил меня: – «Гады» классные, я в них два похода сделал. Смотри, какая резина, – курсант повернул ботинки подошвами ко мне, – её никакая солярка не берёт. А шнурки из сыромяти – им вообще сносу нет… – Если тебя мои ботинки устраивают, – прервал я хозяина «гадов»,– то, пожалуйста, обменяемся. При этом я был в полной уверенности, что как только он возьмёт в руки мою обувь, то сразу пойдёт на попятную. Однако курсант, сунув мне в руки «гады», взял мои ботинки и, не взглянув на их подошвы, скрылся так же внезапно, как и появился. Некоторое время я полежал на койке, ожидая, что мой суетливый партнёр вот-вот вернётся за своей обувью. Но он не появлялся, и я, решив опробовать своё приобретение, обулся и двинулся на выход. «Гады» оказались вполне приличными, хотя для меня несколько просторными. Подходя к двери, я неожиданно увидел в одном из проходов их бывшего хозяина. В его руках были мои ботинки. Поворачивая их так и сяк, он что-то горячо внушал сидящему напротив новобранцу. Лицо последнего выражало одновременно удивление и сомнение. «Интересно, что заливает ему курсант про отсутствующие подошвы,– мелькнула у меня мысль, – может быть, что их откусила акула, когда он тонул во время кораблекрушения?». Я не стал дожидаться результата торга и ушёл на плац, чувствуя себя уже полноправным хозяином «гадов». Кстати, несколько слов о плаце. Для любой воинской части, а военного училища особенно, это далеко не просто «большое пустое место». На плацу вершится много важных для училища событий и дел: от повседневных физзарядок, прогулок, занятий строевой подготовкой, до общих торжественных построений по случаю государственных праздников, встреч высоких начальников, проведения инспекций и смотров. Наиболее приятные из всего этого, конечно, торжественное построение по случаю выпуска или юбилейные встречи выпускников. В то время плац училища представлял собой большую часть Приютского переулка, существенно расширяющуюся в этом месте за счёт того, что основное здание училища сильно вдаётся вглубь квартала, выходя обратной фасаду стороной на параллельную Приютскому переулку 12-ю Красноармейскую улицу. Со стороны, противоположной зданию училища, плац ограничивала длинная глухая краснокирпичная стена приземистого здания стрелкового тира. С правой от здания стороны – забор вдоль Дровяной улицы, который затем под прямым углом продолжался вдоль 12-й Красноармейской до здания училища. Часть плаца в углу между стеной тира и забором была занята спортплощадкой с двумя волейбольными сетками, затем небольшим двухэтажным зданием. В нём размещалась санчасть, там же мы сдавали вступительные экзамены. Вдоль остальной части забора высился длинный штабель из двухметровых плах, запасённых ещё, наверно, в войну. На этих дровах мы и проводили своё свободное время, греясь и загорая, а также подключаясь изредка к игре в волейбол. Несколько позже сюда стали наведываться наши мамы и другие родичи с целью не только повидать, но и подкормить своих чад, передавая пакеты с едой через металлическую решётку, которой начинался забор около тира. Подношения были элементарные: хлеб, варёная картошка, малосольные огурцы. И это было в самый раз, поскольку мы просто хотели есть. Да и среди наших родителей практически не было таких, кто мог бы позволить себе дорогие деликатесы. Мне запомнилась «сцена у забора», когда курсант О. под заботливым оком мамы с аппетитом хлебал ложкой суп из небольшой алюминиевой кастрюльки, завёрнутой в газету для сохранения тепла.
О «главном» на флоте
Раз уж речь зашла о еде, опишу в общем (как мне запомнилось) нашу училищную кормёжку. Столовая и кухня (естественно, они у нас назывались по-корабельному – «камбуз») находились в цокольной – левой, если смотреть с плаца, части здания. Низкий, со сводчатым потолком зал столовой был уставлен длинными (человек на 15 с обеих сторон) столами. Между ними помещались деревянные лавки. Столы обычно были покрыты клеёнкой, но по большим праздникам на них стелили белые льняные скатерти. Пища на столы подавалась в объёмистых алюминиевых посудинах – «бачках». Первое блюдо – по двенадцать порций, второе – по шесть. Хлеб, нарезанный из расчёта по два куска на человека, – на глубоких тарелках, масло по шесть порций – на мелких, сахар тоже в тарелках примерно по две чайные ложки, компот – в кружках. Чай, уже заваренный, в чайниках по размеру и материалу подстать бачкам. Вся основная столовая посуда, включая ложки и вилки, была из алюминия. Ножей накрывали по два на шестёрку. Постоянного расписания по бачкам, как это практикуется на кораблях, не существовало. Мы заходили за столы, не нарушая строя, каким шли в столовую (в колонну по два), поэтому место в строю, как правило, определяло и место за столом. Зайдя за столы, стоя ожидали, пока это выполнит целиком рота, после чего следовала команда старшины роты: «Рота, сесть!». По его же команде: «Рота, встать!» мы поднимались и выходили из столовой, когда «приём пищи» заканчивался. Само собой, нас не обучали, как вести себя за столом и как правильно пользоваться приборами (что для воспитанников приюта, может быть, и естественно, но никак не для будущих офицеров). Требовалось лишь, чтобы не было галдежа. На завтрак нам давали два куска (около 150-ти грамм) белого хлеба, небольшой (грамм 20-25) кусочек масла, пару чайных ложек сахарного песку и чай. Обед состоял, как правило, из трёх блюд: первого (суп или щи, реже борщ на мясном бульоне), второго (чаще всего макароны по-флотски, котлеты или биточки с гарниром, перловка или капуста с мясом) и третьего (преимущественно компот из сухофруктов, изредка – кисель). Перловка и капуста в нашем обиходе более известны как «пенсак» и «бигус». Хлеба, как и на завтрак, полагалось два куска, только чёрного. По большим праздникам в обед нас могли побаловать закуской в виде винегрета или куска селёдки, а так же небольшой булочкой или коржиком. Позже, уже в высшем училище, по субботам и в праздники во время обеда играл училищный духовой оркестр. Всем нравился «Танец с саблями» Хачатуряна. Ужин, можно сказать, являлся бледной копией обеда и включал второе блюдо, хлеб и чай. Вечерний чай был едой почти символической: полкружки сладкого чая с кусочком белого хлеба. Первые два года учёбы питания нам явно недоставало, чувство голода ощущалось почти постоянно. Отмечу, однако, что ссор из-за еды (например, по причине неточной или несправедливой на чей-либо взгляд делёжки) я не припомню, пожалуй, их просто не было. Мы инстинктивно сознавали, что давать волю обычно легко возникающему среди голодных, но чаще всего ложному чувству обделённости едой, недостойно морского коллектива (а мы уже начинали считать себя таковым). Имевшие место поначалу попытки отдельных ребят в одиночку поедать полученную в передаче или посылке еду, подвергались осуждению (чаще молчаливому) большинства, и очень быстро ушли из нашего обихода. Так большей частью стихийно, под влиянием, возможно, навеянных литературой романтических представлений о моряках, в нашем разношёрстном мальчишеском коллективе стали закладываться здоровые нравственные начала. Со своим соседом по койке мы и познакомились, угощая друг друга переданными «с воли» картошкой и малосольными огурцами. Оказалось к тому же, что мы соседи и по городу: Серёжа Никифоров жил от меня всего через одну улицу – на Петра Лаврова (Фурштадской). Нашему случайно начавшемуся соседству суждено было продолжаться долго: практически весь период учёбы (7 лет!) мы сидели за одной партой, занимали рядом койки и были друг другу (надеюсь, Серёжа разделит моё мнение) хорошими товарищами.
Обретаю начальников, форму и место
В средине августа состоялось наше распределение по ротам и учебным классам. Эта процедура началась с того, что весь курс (более двухсот человек) построили «по ранжиру» в две шеренги в широком и длинном коридоре четвёртого этажа правого флигеля. Место в строю определялось соответственно росту, последовательно от самого рослого к самому низкорослому. За построением наблюдали около десятка офицеров и старшин, среди которых были уже известные нам начальник нашего курса капитан-лейтенант Щёголев Иван Сергеевич и его заместитель по политической части капитан 3-го ранга Комиссаров Алексей Исидорович. Когда улеглась естественная для подобного построения толкучка, нас разделили на восемь примерно одинаковых групп. Я и Серёжа Никифоров оказались в шестой группе, Виталька Серебряков – в четвёртой. Каждая группа образовала учебный класс, два класса – роту. Соответственно номеру курса в училище (1), номеру роты на курсе (3) и номеру класса в роте (2), наш класс получил номер 132. На этом же построении И.С. Щёголев представил нам командиров. Командиром нашей роты назначался капитан Кручинин, старшиной – старшина сверхсрочной службы Николай Чаплыгин, баталером (заведующим вещевой частью) – старшина 2-ой статьи сверхсрочной службы Парфёнов. Затем нас разбили по отделениям (каждая шеренга – отделение) и переписали фамилии. Аморфный массив новобранцев превратился таким образом в организованное подразделение, где каждый индивидуум имеет своих начальников, а начальники, соответственно, имеют подчинённых и отвечают за них. После распределения по ротам сразу началось переодевание. Нам выдали комплект рабочего обмундирования: тёмносерую хлопчатобумажную «робу» (широкая навыпуск рубашка, брюки морского покроя без ширинки, с отстёгивающимся спереди во всю ширину брюк «клапаном», к ним узкий холщовый ремень – «треньчик»), форменный воротник, яловые рабочие ботинки, бескозырку без ленточки, трусы, носки (всё вышеперечисленное – новое) и тельняшку – б/у (бывшую в употреблении, после стирки). Выдача остального, положенного по «аттестату» обмундирования, откладывалась до ноября месяца – окончания нашего «карантина». Только после этого момента мы де-факто становились полноправными курсантами и делали первый шаг к избавлению от обидной клички «албанец», которой, непонятно по какой ассоциации, обзывали новобранцев «мариманы» старших курсов. Ещё до переодевания нас определили в спальные помещения. Их двери выходили в коридор, где происходило построение. В «кубриках» было установлено примерно по тридцать двухъярусных коек, в проходах между ними друг на друге стояли тумбочки. Каждая рота имела свой кубрик. Место на койке, а потом ещё и за партой в классе (за каждым классом закреплялось отдельное постоянное помещение) составляли, так сказать, индивидуальную «жилую зону» курсанта. Всё остальное окружающее нас жизненное пространство было общее, коллективное, служебное. Понятно, что в этих условиях возможность уединения практически исключалась. Каким образом подобное положение влияет на развитие (психологическое, духовное) подростка, мне оценить трудно. Могу лишь отметить, что для большинства из нас оно было привычным, можно сказать, с пелёнок. По части скученности наша предшествующая жизнь в семье, протекавшая почти у всех в одной общей комнате городской коммунальной квартиры или крестьянской избы, в лучшую сторону практически не отличалась. Принципиальным и очень болезненным для нас, вчерашних детей, отличием было отсутствие домашнего тепла, материнской заботы, того ощущения душевного покоя и уравновешенности, которые могут возникнуть лишь в привычном окружении родных и близких людей. Мне тоска по дому очень остро давала о себе знать практически весь первый год. Думаю, что и у других ребят процесс привыкания к новой жизни проходил едва ли легче. Однако все мы таили эти чувства в себе. Каждый справлялся с ними в одиночку, не делясь своими переживаниями даже с самым близким другом и тем более таясь от родных. Конечно, такая внутренняя напряжённость отнимала немало душевных сил, но, не преодолев её, подросток не может превратиться в мужчину.
Первая «вахта»
Одновременно с размещением «личного состава» рот по кубрикам, в учебных классах были назначены «младшие командиры». Не помню точно, как с этим делом обстояло в других ротах, но в нашей 3-й роте в своём большинстве это были ребята из числа оставленных на 1-м курсе повторно. Со смесью лёгкой иронии их называли «сверхсрочниками». Обычно неуспевающих из училища отчисляли, и подобное исключение из правил было возможно или по весьма уважительной причине, например, продолжительная болезнь, или «по блату». В последнем случае кто-нибудь из родителей (близких родственников) «сверхсрочника» оказывался или высокопоставленным лицом, или по характеру работы был связан с дефицитом. В число таких «нужных людей» входил и кассир железнодорожных касс (им работала мать одного нашего «сверхсрочника»). В те времена достать билет на поезд, особенно плацкарту или купе, составляло большую проблему. Поэтому в подобных случаях так и говорили: не купить, а «достать». Старшиной нашего класса назначили Сергея Плаксина, командиром отделения, в котором были я и Серёжа Никифоров – Юру Котвицкого, другое отделение «вверили», кажется, Мише Рождественскому. Импульсивный Плаксин, слова у которого часто обгоняли мысль, и ровный характером Котвицкий неплохо дополняли друг друга, помогая нам на начальном этапе (порой грубовато или с издёвкой, но беззлобно) ориентироваться в сложностях армейского – с военно-морской спецификой – непривычного быта. Это было весьма кстати, ибо как только завершился организационный период, нас начали ставить в наряды (учитывая вышеозначенную специфику, следует написать «на вахту»). Моей первой в жизни «вахтой» была охрана в третью смену овощехранилища. В связи с этим событием, в моей памяти возникает картина заполненной сумраком неуютной комнаты, в которой размещался состав суточного наряда караула, шум обильного дождя за окном (вторая половина августа была довольно дождливой) и чувство растерянности в душе, вызванное неспособностью сразу переварить многочисленные наставления разных начальников, прозвучавшие при подготовке к наряду и на разводе. Моя смена заступала в 4 часа утра. Я лёг рано, но долго не мог уснуть. Мешала одежда – во время сна наряду разрешалось снимать только обувь. Когда разводящий из числа курсантов старшего курса стал меня будить, то стряхнуть с себя сон стоило крайнего напряжения воли. Мне казалось, что я только-только уснул. В помещении было темно, лишь пол отсвечивал от горящей в коридоре лампочки какими-то странными бликами. Оказалось, что комната залита водой. Помещение для наряда находилось на верхнем этаже, и дырявая крыша не смогла защитить нас от дождя. Мои новые «гады» отплыли несколько в сторону, я по койкам добрался до них и, обувшись, вышел в тускло освещённый коридор, где уже строилась наша смена. Овощехранилище располагалось за пределами училища внутри двора какого-то здания на 10-й Красноармейской. Ночь была довольно прохладной, но дождь прекратился. Это было большим везением, так как какой-либо защиты от дождя (в виде плаща, накидки) мы не имели. Отбывавший вторую смену (с полуночи до 4-х) курсант держался довольно бодро, но не мог скрыть дрожи, охватившей его, видимо, от нетерпения и сырости. В темпе передав мне под наблюдением разводящего закрытую дверь в подвальное помещение овощехранилища, замок с бумажной контролькой на двери и учебную винтовку (в её патроннике была просверлена дырка) с примкнутым трёхгранным штыком, он с явным облегчением занял своё место в строю, после чего смена быстрым шагом удалилась. Я остался один коротать долгие четыре часа. Поначалу было сносно. Прохлада разогнала мою сонливость, и основная забота теперь заключалась в том, чтобы не дать себе замёрзнуть. Хлопчатобумажные тельняшка и роба от ночного холода и сырости были слабой защитой. Ходьбой и разными телодвижениями я старался поддерживать надлежащий тонус, но холод брал своё. Вскоре я стучал зубами и дрожал с не меньшей интенсивностью, чем сменённый мною курсант. Часов не было (в то время они даже для офицеров были чуть ли не предметом роскоши), и казалось, что время остановилось. Наконец, когда терпение было уже совсем на пределе, начало светать, а затем во двор заглянуло солнце. Я прислонился к освещённой солнцем стене, и оно приласкало меня своим теплом. Но едва отступил холод, как на смену ему навалилась непреодолимая сонливость. Изо всех сил я старался не поддаваться ей, но глаза закрывались сами собой, сознание ускользало… Внезапно раздался страшный грохот. Открыв глаза, я увидел перед собой валяющуюся на булыжной поверхности двора винтовку и, сообразив, что эта винтовка моя, окончательно проснулся. Оказывается, какое-то время я спал стоя, при этом ноги меня держали, но руки подвели. Удивление и стыд по поводу этого казуса помогли мне разогнать сонное оцепенение, и я в довольно приличном состоянии дождался конца смены. В сопровождении разводящего пришла кладовщица и приняла мой «объект». Первая в жизни «вахта» завершилась благополучно. Ночное дежурство поначалу являлось для всех нас довольно тяжёлым испытанием. И не всегда дело было только в отсутствии привычки противостоять коварству сна, в безмолвии ночи прихотливо играющего нашим сознанием, как ветер огоньком свечи. Однажды одноклассника Колю Зимина, охранявшего секретную часть и расположенный поблизости буфет, пришедшая смена обнаружила на полу крепко спящим в обнимку со своей винтовкой. При этом дверь в буфет была вскрыта и, как потом оказалось, из него пропало несколько бутылок пива, шоколад и печенье (секреты, слава Богу, уцелели). Колю с трудом разбудили, но он ещё некоторое время не мог придти в себя, так как был явно нетрезв. Командование долго билось над ним, стараясь выведать все обстоятельства кражи. Было очевидно, что дело не обошлось без более опытных соучастников. Скорее всего, они сначала уговорили (или заставили) Колю не поднимать шума, а затем напоили. При нашем возрасте и хлипких кондициях для этого было достаточно одной-двух бутылок пива. Однако все попытки узнать, что же было на самом деле, насколько мне известно, ни к чему не привели. Коля упорно отмалчивался или говорил, что ничего не помнит. В итоге его как-то наказали и этим ограничились. С течением времени, однако, суточные наряды, вахты, дежурства – эти основные формы отправления обязанностей военной службы, становились для нас привычным, хотя подчас нелёгким и не очень приятным, но обыденным делом.
Самоволка
Во второй половине августа приехал в отпуск мой старший брат Федя. Вскоре он меня навестил и при этом решил обратиться к начальству с просьбой о моём увольнении на несколько часов после ужина (вечером у нас по случаю приезда Феди собирались родственники). Охватившее меня желание попасть в этот день домой не выразить словами. Однако Чаплыгин, а затем и Кручинин решить этот вопрос отказались. Пришлось идти к Щёголеву. В его небольшой продолговатый кабинет мы зашли вместе. Брат подошёл к столу, за которым сидел начальник курса, я остался у двери. Непродолжительный разговор между ними проходил вполголоса, и я расслышал лишь последние фразы. Просительную брата: – Товарищ капитан, я его сам вечером привезу! У меня мелькнула мысль: «Эх, нехорошо, Щёголев может оскорбиться, ведь его звание морское – «капитан-лейтенант». И категоричный ответ Щёголева: – Нет, старшина, нельзя! Всё, разговор окончен! Сказать, что мы были глубоко огорчены отказом, значит сказать очень мало. Неприятно задело, что его даже не сочли нужным мотивировать, к тому же взятый начальником курса официальный резкий тон слишком явно и неуместно подчеркнул разницу в званиях его и Феди. Отмечу, что подобный стиль разговора, как определённо стало ясно в дальнейшем, не был свойственен характеру Ивана Сергеевича. Чем была вызвана в тот раз его неприветливость, можно только догадываться. Возможно, мы, что называется, попали под «горячую руку», и импульсивный по натуре Иван Сергеевич сорвал на нас своё раздражение. Правда, теперь я склонен считать более вероятным другое: своей резкостью Щёголев маскировал тот факт, что, совсем ещё не зная своих подопечных, он опасался брать на себя ответственность за моё увольнение и связанное с этим нарушение «карантина», а обращаться по этому вопросу выше не хотел. В общем, идя на выход к КПП, мы чувствовали себя не только паршиво, но и униженными таким безапелляционным отказом. У меня возникла мысль о самовольной отлучке, и, провожая брата, я сказал: – Сегодня вечером всё равно буду дома! Федя понял и промолчал. – Старшина, что невесел, – с дружелюбным задором окликнул его разбитной белокурый дежурный по КПП с тремя лычками на погонах, который ранее без волокиты пропустил Федю на территорию училища,– не увольняют брата? И после утвердительного ответа сказал, обращаясь ко мне: – Я в 15 часов меняюсь, зайди на цикл ВМП (военно-морской подготовки), спроси Емельянова, постараюсь тебе помочь. Это предложение нас обрадовало, хотя и озадачило: с чего вдруг такой широкий жест; да и что сможет сделать старшина, если отказал начальник курса? Однако уверенный тон, каким было сделано предложение, внушал надежду, и брат уехал несколько ободрённый. В начале четвёртого я спустился на цикл ВМП (он располагался над столовой). Войдя в обширное помещение, невольно замер у дверей, поражённый царившим в нём порядком и тем особым изяществом, которое свойственно многим предметам морского оборудования и снаряжения, особенно когда они заботливо обихожены, надраены и умело размещены на столах и специальных подставках. Даже воздух здесь был особый: в нём витал приятный аромат смолёного троса от лежащих перед дверями плетёных матов. Одна из выходивших в помещение дверей была полуоткрыта, и из неё доносились голоса. Робко войдя в неё, я неожиданно для себя очутился в центре внимания находившихся там нескольких человек, среди которых были старшина Емельянов и офицер в звании капитана. Все они прекратили разговор и выжидательно уставились на меня. Зная уже уставное положение, что вступать в разговор с младшим по званию в присутствии старшего можно лишь с разрешения последнего, я, стараясь не ударить в грязь лицом, чётко начал: – Товарищ капитан, разрешите обратиться к старшине… Тут я, ещё неуверенно разбиравшийся в морских званиях старшин, запнулся и, решив, что число лычек на погонах должно соответствовать статье старшины, продолжил: – …третьей статьи Емельянову. Ответом мне был громовый хохот, впрочём, не обидный, но всё же изрядно смутивший меня. Поясню для не моряков, что фактическое звание Емельянова было «старшина первой статьи», а упомянутого мной вообще не существует. К тому же, поскольку во флотских званиях большая цифра соответствует меньшему званию, моя ошибка приобретала и некий уничижительный для него акцент. Отсмеявшись, Емельянов таким же лёгким и уверенным тоном, каким он ранее сулил свою помощь, сказал мне: – Нет, дорогой, ничем помочь не могу, никто не соглашается отпустить тебя. Обещание Емельянова оказалось пустым бахвальством. Оставалось одно – самоволка. После ужина, спрятав в дровах бескозырку и форменный воротник, без которых наша серая хлопчатобумажная роба почти не отличалась от рабочей спецовки, я перелез через забор на 12-ю Красноармейскую и на трамвае поехал домой. О моём намерении знал только Серёжа Никифоров. Он обещал в случае задержки подстраховать меня на вечерней проверке, и, если проводящий перекличку старшина будет находиться на безопасном удалении, откликнуться на мою фамилию. На душе было неспокойно. Помимо опасения, что моё отсутствие может быть обнаружено в роте, в городе существовала возможность нарваться на патруль. К этому времени нас уже успели основательно застращать тем, что самоволка есть тяжёлый проступок, за который следует неминуемое отчисление. Поэтому моя природная дисциплинированность подвергалась серьёзному испытанию. Но не менее сильно давало о себе знать и моё упрямство, особенно проявляющееся в случаях, когда я имею основания считать, что по отношению ко мне поступают несправедливо. В итоге я ехал домой с сознанием своей правоты. Дома мне обрадовались. То, что я в самоволке, понял только Федя. Чувство радости, однако, скоро опять сменила тревога. Мысленно постоянно возвращаясь в училище, я никак не мог почувствовать себя полностью дома. Мне казалось, что между мной и присутствующими – дорогими и близкими людьми – возникает какой-то невидимый барьер, который мне уже не переступить. Федя несколько раз пытался развеять мою хандру, но без успеха. Побыв дома часа полтора, весьма для меня томительных, я уехал. Минут за двадцать до проверки я уже был в роте, и внешне самоволка не имела последствий. Но в душе надолго поселились горечь и обида на людей, отравивших мне встречу с братом и родными. Вместо глотка радости, так необходимого мне тогда, я получил море отрицательных эмоций. Впервые дал мне себя почувствовать так называемый «воинский порядок», при котором буква часто главнее смысла, а проявление гуманности к подчинённым может квалифицироваться как отягчающее обстоятельство. Привыкать к новой жизни стало ещё труднее.
132-й класс
Учебный год наступил незаметно. В моей памяти не осталось ничего, связанного с его началом. Кроме, пожалуй, чувства, что именно с этого момента наше существование на Приютском обрело смысл, систему и целенаправленность. Теперь мы практически неотлучно находились в кругу своего классного коллектива, и жизнь каждого, вплоть до самых мелких поступков, проходила на глазах одноклассников. Наголо постриженные, в не обмятых топорщившихся робах, с тяжёлыми «гадами» на ногах, недоедающие, втайне до боли тоскующие по дому, очень по сути беззащитные, но, как и положено в этом возрасте, моторные, шумливые, беззаботные, падкие на шутку и розыгрыш, легко ранимые и незлопамятные – такими начали мы свой путь осенью 1946-го года. Нами владело общее стремление поскорее стать заправскими «мариманами». Конечно, не матёрыми морскими волками (это маячило далеко впереди), а прежде всего обрести полноценный курсантский статус и обзавестись «мариманскими» атрибутами: бескозыркой – «блином» без каркаса, с полями, ушитыми настолько, что на тулье едва умещалась звёздочка, и ленточкой с концами до пояса, обесцвеченным хлоркой почти до белизны форменным воротником (гюйсом), суконкой (форменкой) туго обтягивающей торс, нередко весьма хилый, из разреза которой на груди выглядывало бы не более трёх полосок тельняшки, и всенепременно брюками-клёш, расширяющиеся книзу штанины которых как минимум полностью скрывают ботинки. Таков был тогда высший «флотский шик». С этим «порождением порока» вели неустанную, но безуспешную борьбу командиры всех степеней, патрули, коменданты и другие многочисленные ревнители уставной формы одежды. Последняя, хотя и смотрелась добротно, для искушённого глаза совершенно не обладала той лихой небрежностью, пижонистостью, которая так нас привлекала. Борьба флотских щёголей, среди которых большинство составляли курсанты, за возможность провести своё увольнение одетым в форму, «улучшенную» в соответствии с модой и своим вкусом – это отдельная богатая находчивостью, риском, курьёзами страница курсантской истории, требующая от пера особой лёгкости и остроты, а потому выходящая за рамки данных записок. Несмотря на внешнюю одинаковость, мы, естественно, были разными. Само собой, полный набор черт характера, который сделал каждого из нас такими, какие мы есть, был ещё только в потенции. Тем не менее, у всех уже обозначился своеобразный внутренний контур, создающий у окружающих, вкупе с внешним обликом, устойчивое впечатление о его обладателе. Каждый из одноклассников, ставших за время учёбы одинаково близкими и дорогими, оставил в моей памяти свой индивидуальный отпечаток черт и эмоций. Выделю, на мой взгляд, наиболее характерные. Вернее, те из них, которые устойчиво ассоциируются у меня с их образами, когда я вспоминаю подготские годы. Мягкий, толковый, неизменно доброжелательный Саша Лотоцкий – мы сразу избрали его комсоргом. Рассудительный, чуть ироничный, с выраженным музыкальным слухом Дима Кузнецов. Молчаливый, но изредка внезапно разражающийся резким высказыванием (прозванный за это «реактивным») Спартак Чихачёв. Трезвомыслящий пессимист Кира Маргарянц. Сдержанный оптимист Юра Клубков. Девственно наивный и честный Коля Кузовников. Тугой на мысль, но всепобеждающе упорный Марат Медведев. Любитель парадоксов, саркастичный Эрнст Молчанов. Лёгкий на улыбку и каверзы преподавателям Боря Юргенсон. Тихий юморист Володя Шустров. Расчётливый, наверно с пелёнок, Костя Лебедев. Дотошный умник Марк Гурович. Предпочитающий держаться в тени Боря Евтихов. Светлоголовый, с крупным пятном на затылке из более тёмных волос, застенчивый на вид Толя Осипов. Неконфликтный, «себе на уме» Коля Зимин. Скрытный, редко подающий свой тихий голос для реплики, как правило, язвительной, Игорь Смирнов. Самоуверенный, с ехидцей и «фиксой» Рэм Гордеев. Уравновешенный, в меру активный Володя Матвеев. По житейски сметливый, из тех, кто сам себя перехитрит, Миша Рождественский. О Серёже Плаксине и Юре Котвицком уже было сказано.
ЛВМПУ, 1947 год. 132 класс на якоре перед главным входом слева направо, сверху вниз: Володя Шустров, Спартак Чихачёв, Костя Лебедев, Коля Лапцевич, Серёжа Плаксин, Саша Лотоцкий, Боря Евтихов, Дима Кузнецов, Саша Гамзов, Кирилл Маргарянц, Юра Котвицкий, Юра Клубков, Коля Зимин, Володя Матвеев, Толя Осипов, Олег Кузнецов, Серёжа Никифоров, Коля Кузовников, Рэм Гордеев
Ещё троих, ставших в течение учёбы моими ближайшими друзьями, опишу более подробно и с проекцией на последующую жизнь. Серёжа Никифоров (Сергей Васильевич). Небольшого роста ладно сложенный блондин. Негустые очень мягкие на вид волосы слегка волнисты. Высокий гладкий лоб, лицо, покрытое чистой матовобледной кожей, суживается книзу, на щеках лёгкий румянец. Правильной формы короткий нос, голубые, очень заметные из-за светлых бровей и неглубокой посадки, глаза. Широкая улыбка, открывающая ровный ряд зубов с несколько удлинёнными передними резцами, посредине каждого из которых заметны по два небольших, в виде точек, углубления. При разговоре, особенно когда Сергей возбуждён или волнуется, голос его то становится низким, то вдруг срывается на фальцет, а губы слегка перекашиваются в гримасе пренебрежения (отнюдь им не испытываемого). Внешний вид Сергея неизменно опрятен, подтянут, форма аккуратно и умело подогнана и сидит на нём не без щегольства. Внутренний мир Сергея для меня во многом остался загадкой. Главная причина этого, как мне кажется, в том, что время нашей дружбы пришлось на юные годы, то есть в пору, когда собственные переживания взрослеющего человека заполняют его почти целиком, и ему совсем недосуг углубляться в мир чувств живущих рядом. Кроме того, по складу характера Сергей не принадлежит к натурам, у которых, что называется, «душа нараспашку». Сдержанный, корректный он свои переживания хранил при себе. В большой степени благодаря этим качествам, а так же способности моего друга оценивать происходящее рационально и трезво, не было между нами ни ссор, ни серьёзных размолвок. Наши отношения практически всегда были ровными, дружественными, даже тёплыми.
ЛВМПУ, 1947 год. Нас сфотографировали в классе во время самоподготовки. Слева направо: Серёжа Никифоров, Коля Лапцевич, Дима Кузнецов и ещё кто-то слабо виден
К тому же, живя друг с другом буквально бок о бок в течение многих лет (койки рядом, всегда за одной партой, общий бачок в столовой и так далее), никто из нас не делал попыток как-то «перевоспитать» другого. Похоже, мы оба устраивали друг друга такими, какими были. А товарищем Сергей был надёжным, его порядочность не вызывала сомнений.
Ленинград, 1952 год. Серёжа Никифоров, мой задушевный друг
Однако при всём том нельзя не отметить, что какие-то черты наших характеров, а возможно и более глубинные психологические различия, помешали нам стать нужными друг другу на всю жизнь. Правда, не способствовали, а скорее противодействовали этому, и внешние обстоятельства. После окончания училища пути наши не пересекались, за всё прошедшее время мы имели две-три короткие встречи (достаточно сердечные). Служба Сергея (весьма успешная, отмеченная государственными наградами) прошла на Черноморском флоте (с длительными «отлучками» в Египет и на Кубу). После неё он прочно осел в Севастополе – городе, который при всей своей притягательности так и не вошёл, к сожалению, в сферу моих служебных и личных интересов. И, тем не менее, наша училищная семилетняя дружба в моей душе жива по сей день. Саша Гамзов (Александр Васильевич) поступил в ЛВМПУ вместе со своими школьными друзьями Сашей Кулешовым и Борей Петровым. В училище они оказались в разных классах, но на их дружбе это не отразилось. Мои отношения с Сашей Гамзовым складывались постепенно, но по нарастающей: от первоначально нейтральных, через стабильно приятельские к прочным дружеским. Первое впечатление о Саше имело у меня, пожалуй, оттенок отчуждённо-настороженный. Причиной этому была его манера держаться, соединяющая в себе некую браваду с лёгкой «приблатнённостью». (В те времена блатными называли лиц, принадлежащих к уголовному миру, и все уличные хулиганы, включая мелких шкодников, «косили» под блатных). Однако очень скоро через эту мальчишескую защитную скорлупу стали видны истинные черты Сашиного характера: коммуникабельность, развитое чувство юмора, острое неприятие фальши, верность дружбе и морскому товариществу, готовность – нередко бесшабашную – постоять «за флот» и друзей. Впрочем, Сашина боевитость, напоминающая тогда задор молодого петушка, не была безрассудной, вполне уравновешиваясь его природной незлобивостью и здравым смыслом. Эти качества смягчали так же до приемлемой едкость его нередких реплик и острот, незамедлительно следовавших в адрес любого из нас, допустившего в своих поступках или словах неискренность, двусмысленность, а то и просто неловкость. А сопровождающая насмешку лукавая Сашина улыбка, как правило, вообще снимала обиду. Лицо Саши, покрытое лёгким налётом веснушек, голубоглазое, с приятными чуть округлыми чертами, венчала шапка вьющихся мелкими кольцами каштановых с рыжинкой волос, придавая его хозяину импозантность и дополнительную привлекательность. Среднего роста, с обычной для подростка стройностью, он с особой гордостью носил морскую форму, которая, в отличие от Серёжи Никифорова, сидела на нём не с аккуратной щеголеватостью, а с претендующей на «флотский шик» небрежностью.
Ленинград, 1952 год. Саша внимательно наблюдал за всем, что происходит вокруг
Офицерская служба Саши проходила на Балтийском (бронекатера) и Северном (тральщики) флотах. В 1960-м году в звании капитан-лейтенанта и с должности командира тральщика он уволился в запас по болезни. Я склонен думать, что не в меньшей степени, чем болезнь, причиной такого удивившего многих шага явилась сложившаяся в те годы на надводном флоте нездоровая, во многом унизительная обстановка выживания, вызванная массовыми сокращениями. На гражданке Саша окончил вечерний институт, переменил ряд профессий и нашёл место в жизни. Однако определённо можно сказать, что с его увольнением на кораблях убавилось на одного способного и преданного морю офицера, а Саше, кажется мне, всю последующую жизнь пришлось, что называется, «наступать на горло» главной мечте своей юности. Встречаясь с Сашей сейчас, на склоне лет, я порой удивляюсь тому, как много осталось у него от того, прежнего, которого я увидел впервые более полувека назад. Время сделало грузной его фигуру, лишило кудрей, разбавило бесшабашность возрастной оглядкой, а юмор иронией и сарказмом. Но лицо сохранило приятность, не потускнела любовь к морю и флоту, живы прежние верность дружбе и готовность придти на помощь. Как и тогда, он нетерпим к фальши и лицемерию. Эту мысль я попытался выразить с шутливым гротеском в стихотворении по поводу его 70-летия.
А. В. Гамзову
«…Мы все бухарики и моты…» Из подготского гимна
Наш бравый Гамзов Сашка – Подгот и мариман – Не признаёт рюмашки, Его масштаб – стакан.
Он море любит страстно, Задирист, как петух, И в схватке рукопашной Один он стоит двух.
Давно пора бы Сашке – Ведь скоро семьдесят – Носить халат, подтяжки, Выращивать щенят…
Но бородатый Сашка По-прежнему подгот. Душа его в тельняшке, А по своим замашкам Бухарик он и мот.
Знатоки литературы заметят, что вторая строфа почти дословно взята из песенки Лепелетье о французском короле Генрихе IV. Осталась у Саши и склонность к прямолинейным категоричным оценкам, а так же даёт иногда себя чувствовать нетерпеливое нежелание вникнуть поглубже в доводы оппонента. Вполне объяснимые в молодости, эти качества сейчас могут создать впечатление несвойственной зрелому возрасту поверхностности. Однако эта, скажем так, горячность отнюдь не следствие недостатка ума. Она скорее, согласно французской поговорке, является во многом продолжением достоинств Сашиного характера. Следует добавить к этому, что подобная реакция на сегодняшние реалии в той или иной степени присуща всем нам – поколению, воспитанному партией на простых и ясных жизненных схемах, и органически отторгающему навязываемое сейчас обществу под видом «новых ценностей» лицемерное жлобство. С Олегом Кузнецовым (Олег Алексеевич), остававшимся, как Сергей и Саша, моим одноклассником в течение всех семи лет, мы особенно сдружились в последние два года учёбы. Третьим с нами был тогда Олег Долгушин – выпускник Рижского нахимовского училища. Сблизила нас, помимо всего прочего, сложившаяся аналогия в положении дел на личном фронте: у каждого к этому времени уже была постоянная девушка, наши отношения с которыми, развиваясь поступательно, были примерно в одинаковых фазах. Хотя увольнения мы, как правило, проводили по отдельности, со своими подругами, в училище, в перерывах между занятиями и лекциями, нам было о чём поговорить. (Подчеркну специально для теперешнего «продвинутого» молодого поколения: чувства наши носили серьёзный, но целомудренный характер, и в разговорах на эту тему налёт сальности для нас был неуместен). При этом дружба обоих Кузнецовых (Олега и Димы) и моя с Серёжей Никифоровым не прерывалась, просто у каждого из нас дружеские интересы, расширяясь, укреплялись и с другими ребятами класса. Подобная естественная и безболезненная подвижность дружеских привязанностей возникает, по-моему, в очень сплочённых, сложившихся коллективах, когда отношения между его членами становятся близкими к семейным, братскими. Именно таким и стал наш класс после нескольких лет совместной жизни. Первое впечатление об Олеге у меня сохранилось отчётливо: среди нас, только что собранных в единую группу, он был, пожалуй, самый открытый. На уяснение того, что перед тобой хороший, дружелюбный человек не требовалось ни времени, ни особой наблюдательности. Олег сразу располагал к себе и внушал доверие. По отношению к окружающим он был мягок, но без излишней уступчивости, говорил то, что думал, однако его правдивость и прямота не были резкими или, тем более, оскорбительными. Психическому складу Олега было свойственно оптимистическое восприятие окружающего. В училище я его помню обычно в приподнятом состоянии духа и никогда – в унылом. Вполне соответствующим внутреннему настрою был и внешний облик Олега. Впечатление лёгкости исходило от его тонкой, чуть выше среднего роста фигуры, от слегка прыгающей походки и открытой улыбки, часто возникающей на его продолговатой с типично русскими чертами физиономии. Высокий лоб, прямой, чуть заострённый к кончику нос, голубые глаза под слегка выступающими надбровными дугами, тонкие очень выразительные губы на чистом без румянца лице, – всё это увенчивалось плотной волнистой массой густых, растущих ото лба вверх, тёмно-белокурых волос.
Ленинград, 1952 год. Будущий адмирал Олег Кузнецов
Простота и контактность Олега, его редкая для такого возраста способность слушать и вникать в доводы собеседника, привлекали к нему ребят. Говоря теперешним языком, его «рейтинг» в классе был постоянно одним из самых высоких. Но в лидеры он не стремился, предпочитая по врождённой скромности, не выделяться из общей курсантской массы. В общем, это была цельная, гармоничная и высоко порядочная натура. Таким он и прошёл свой прямой, славный, но очень нелёгкий путь, достигнув без всяких протекций, только упорной верностью избранной профессии, каторжным трудом на постоянно плавающих кораблях и, естественно, благодаря своим незаурядным способностям самых больших высот из курсантов нашего класса. Кто достаточно хлебнул изнанки воинской службы, хорошо знает, каким испытаниям подвергает она заложенные в человеке доброту и порядочность, какой силой духа и ума надо обладать, чтобы, поднимаясь по служебной лестнице, не разменять себя на сомнительные компромиссы. Чем выше должность, тем чаще и жёстче испытания. В том, что Олега не сломили обстоятельства, я случайно получил подтверждение из разговора с офицером штаба Сахалинской флотилии осенью 1983-го года. Упомянув Начальника штаба, он кратко отметил: – Компетентный и человечный. В то время в этой должности состоял контр-адмирал Олег Алексеевич Кузнецов. В течение офицерской службы мы встретились лишь однажды – осенью 1954-го года, одновременно оказавшись в Ленинграде в отпуске. Следующая встреча состоялась спустя 34 года, когда мы оба были уже в запасе. В солидном, приятной наружности мужчине узнать Олега было не трудно. На первый взгляд, возраст, в основном, лишь убрал с лица юношескую заострённость черт да заметно округлил стан. Однако дальнейшее наше общение в ходе не очень частых (два-три раза в год) встреч показало, что время и служба отразились на Олеге гораздо глубже, чем на многих из нас. При этом изменения почти не задели его характера: он по-прежнему был органически скромен, демократичен, трудолюбив, ответственен перед семьёй и друзьями. Кардинально поменялось его мировосприятие: безвозвратно исчезли открытость, лёгкость, улыбчивость. На смену им появилась несколько пасмурная сдержанность, сквозь которую лишь иногда возникали проблески былой дружелюбно-милой улыбки. У меня создалось впечатление, что господствующим настроением Олега к концу службы стала сложная смесь глубокой внутренней усталости, разочарования, даже, возможно, затаённой обиды недооценённости. В основе этого «коктейля», как мне показалось, было осознание Олегом того факта, что, образно говоря, служебная лестница упёрлась в потолок присущей ему бескомпромиссной порядочности. Олег не стал гнуть себя под обстоятельства, и в 1987-м году расстался с флотом. Флот лишился опытнейшего военачальника, служившего ему не за страх, а за совесть. Отечество понесло ущерб. Правда, ему (Отечеству) в то время было уже не до этого. Утешает лишь то, что Олег получил, наконец, возможность полностью посвятить себя семье, составлявшей, наряду с флотом, главный смысл и любовь его жизни. Этого счастья судьба отмерила Олегу чуть больше десятка лет. В феврале 1999-го года его не стало. Безмерно было горе большой и дружной семьи, глубока печаль друзей, но сквозь мрак этих чувств, брезжила мысль: Олег Алексеевич Кузнецов прожил счастливую жизнь, ибо смог реализовать своё предназначение в этом мире сполна и достойно. Вышеизложенным исчерпывается практически полный состав нашего 132-го класса. Этим коллективом, слегка поредевшим к концу из-за отсева, мы и преодолевали свои непростые годы учёбы в ЛВМПУ.
Неожиданное назначение
К концу первого месяца учёбы произошло событие, имевшее лично для меня очень важные последствия. Предыстория его такова. Как только начались учебные занятия, и каждому из нас потребовалось периодически держать ответ перед учителями, почти все наши «сверхсрочники» стали безнадёжно «плавать». Не выручали их ни наши подсказки на уроках, ни помощь во время самоподготовки. Кстати, поскольку в основе неуспеваемости ребят этой группы были лень и нежелание учиться, то и просьбами о помощи они не слишком досаждали. Пошли двойки, но для «сверхсрочников» это было в порядке вещей и не влияло на их апломб по отношению к нам. Напротив, чувствуя снижение своего авторитета, они старались его поднять, прибегая чаще обычного к взысканиям и угрозам. Естественно, такое давление вызвало обратную реакцию, и в «массах» зрело желание поставить в конце концов своих «вождей» на место. Как-то после вечернего чая, улучив момент, когда я оказался в коридоре один, ко мне подошёл Марк Гурович и со своим обычным лёгким заиканием тихо сказал: – Коля, в роте образуется группа ребят, которые собираются проучить «сверхсрочников». Ты как, – не хочешь к нам присоединиться? Каких-либо личных счётов к ребятам – второгодникам у меня к этому времени не возникло, напротив, как с Плаксиным, так тем более с Котвицким, отношения были вполне нормальными. Однако несколько оболтусов из этой компании уже вызывали раздражение своей полублатной спайкой и претензиями на превосходство. Поэтому предложение Гуровича я воспринял положительно. Правда, мелькнула мысль, что неплохо бы узнать, кто эти ребята и сколько их, однако сразу на смену ей пришла другая – а вдруг моё любопытство будет истолковано превратно? И я согласился, не задавая вопросов. Но через несколько дней ситуация разрешилась самым неожиданным образом. Наша рота вернулась с вечернего чая. Старшина Чаплыгин по обыкновению не спешил распускать строй. Перед строем, несколько поодаль от старшины, в хорошо, даже щегольски, подогнанной форме «первого срока», перешитой по «моде» бескозырке, в регалиях дежурного, стоял Серёжа Плаксин, дежуривший в этот день по роте. Его всегда бледное с правильными чертами лицо, на котором красиво выделялись тёмные глаза и тонкие размашистые брови, было спокойно. Серёжа явно не подозревал того, что должно было произойти через несколько минут. Закончив свои объявления-нотации, Чаплыгин, подойдя к строю нашего класса, скомандовал: – Курсант Лапцевич, выйти из строя! Я ответил: – Есть выйти из строя, – сделал два шага вперёд и повернулся кругом, недоумевая, зачем я понадобился. – Плаксин, станьте рядом! – указал старшина место около меня. – Рота, слушай приказ, – начал Чаплыгин, – курсант Плаксин с сегодняшнего дня освобождается от обязанностей старшины класса. Старшиной класса назначается курсант Лапцевич. И после некоторой паузы продолжил: – Курсант Плаксин, сдать обязанности дежурного по роте курсанту Лапцевичу! Не знаю, кто из нас двоих был больше ошеломлён и растерян, когда развернувшись друг к другу, один стал снимать дудку, рцы, штык-нож, а другой их одевать. Пожалуй, шок у обоих был одинаковый, различаясь лишь оттенками: у Плаксина – от явно и болезненно задетого самолюбия, у меня – от оторопелости и недоумения: с чего это вдруг и зачем это мне? Ни меня, ни Плаксина предупредить не сочли нужным. Поставили перед фактом. Получи подобное предложение заранее, я бы открещивался от него всеми способами, так как двух месяцев пребывания в стенах училища было совершенно недостаточно, чтобы я мог взять на себя смелость стать старшиной класса. Так и остаётся непонятным: был ли это сознательный расчёт со стороны командира на внезапность или очередное проявление начальственного пренебрежения к мнению нижестоящих. Думаю, что всё-таки второе, поскольку, будь капитан Кручинин способным на первый, более тонкий психологический ход, ему при этом хватило бы и душевного такта не обойтись так по-хамски с Плаксиным. Правда, определённым утешением ему послужило то, что одновременно были заменены почти все младшие командиры из «сверхсрочников» и в остальных классах курса. Это был радикальный, но в общем своевременный и разумный шаг командования, во многом способствовавший формированию в каждом классе и на курсе морально чистой атмосферы и здоровых отношений. Конечно, отдельные «сверхсрочники» пытались сохранить своё особое положение. Это чаще всего выражалось или в стремлении сколотить нечто вроде оппозиции путём критики действий и распоряжений старшины класса, или, напротив, в претензиях на поблажки и послабления лично для себя. В нашем классе особую изобретательность, даже изворотливость на этом поприще проявлял Миша Рождественский – умный «сак» и прирождённый лентяй. Отлынивать от учёбы и служебных мероприятий, похоже, было в то время его жизненным принципом, поскольку вообще Рождественский обладал темпераментом энергичным и деятельным. Но вся его энергия уходила не на выполнение того, что требовалось, а, так сказать, на ликвидацию последствий своего безделья. Например, получая довольно часто двойки, Миша, стремясь в увольнение, в конце недели направлял свои усилия не на исправление оценок, а на всевозможные ухищрения, чтобы все-таки быть в городе. Прежде всего, он старался «охмурить» какого-нибудь начальника и, ссылаясь на полученное от него поручение, добыть увольнительную, минуя общий список. Если это не удавалось, то пытался вынудить меня включить его, невзирая на двойки, в список увольняющихся от класса. Диапазон давления на меня был широкий: от притворно-униженных просьб («ты ведь добрый, включи меня, ну что тебе стоит») до примитивного запугивания. И однажды, как рассказал мне Серёжа Никифоров, трое старшекурсников искали меня, чтобы «рассчитаться за Рождественского». Не исключаю, что момент их посещения был намеренно выбран такой, когда я отсутствовал в роте. Однако, хотя тогда эти угрозы я воспринимал всерьёз, мне было предпочтительнее подвергнуться избиению, чем из-за уступки наглому напору оказаться в ложном положении перед ребятами класса. В конце концов, Рождественский это понял и отступился от меня. Вообще старшинское становление легло на меня тяжёлым дополнительным грузом и стоило многих душевных усилий. Получать удовлетворение от власти, и тем более наслаждаться ею, отнюдь не в моём характере. Я принадлежу к людям того склада, для которых власть – это, прежде всего, чувство ответственности (постоянное и большей частью томительное) как за порученное дело, так и за людей, от меня зависящих. Поначалу в силу неопытности, а также особенностей своего темперамента, я часто излишне остро реагировал на возникающие в повседневной жизни класса, большей частью обычные, шероховатости, проявляя при этом не всегда оправданные жёсткость и непреклонность. Неизбежным следствием этого было возникающее между мной и ребятами отчуждение, от которого я сильно страдал. Но постепенно, по мере того, как мы привыкали отделять служебные отношения от личных, взаимопонимание наладилось, и ребята признали за мной право быть их старшиной.
Об учёбе
Учебный процесс в подготовительном училище охватывал целиком программу 8, 9 и 10 классов средней школы и включал дополнительно военно-морскую подготовку (ВМП), танцы и второй иностранный язык (первым, основным, был, разумеется, английский). Необходимость и полезность для будущих моряков ВМП, в ходе которой мы знакомились с основными терминами, понятиями и другими азами морской практики, комментариев не требует. А о таком необычном для советской школы предмете как танцы, стоит сказать несколько слов. Думаю, те начальники, стараниями которых был включён в нашу программу этот предмет (решающее слово здесь, безусловно, принадлежало Н.Г. Кузнецову – в то время Министру ВМФ), пеклись в первую очередь не о наших успехах в весёлых компаниях и танцевальных залах. Скорее всего, они рассматривали его с точки зрения нашей будущей профессии как средство, дающее возможность привить подростку навыки поведения в тех рамках, которые в будущем предъявят ему и звание офицера, и характер его работы. Имелось в виду при этом не столько знакомство с так называемыми «правилами хорошего тона», хотя и это не лишнее, сколько через сильнодействующую, берущую начало от инстинктов, специфику танцевальных занятий, пробудить в каждом из нас потребность улучшать стиль своего поведения, учиться быть раскрепощённым и владеть собой – как внешним обликом, так и эмоциями – в любой ситуации и разном окружении. Разумеется, нас в этом процессе увлекала гораздо более актуальная «сверхзадача». Уроки танцев пришлись как нельзя более ко времени: почти у каждого уже появились интерес и тяга к этому увлекательному времяпровождению. И освоение танцевального арсенала, в то время, кстати, весьма разнообразного, сулило существенное повышение наших «акций» в глазах противоположного пола. Усиливала наш энтузиазм также умелая и тактичная манера ведения уроков. Ею в совершенстве владела стройная и изящная, очень «светская» и приятная внешне, но «пожилая», на наш взгляд (ей было, видимо, слегка за сорок), преподавательница. Уроки проходили в фойе клуба под аккомпанемент рояля. В соответствии с программой нас учили большей частью бальным танцам: падекатр, падепатинер, краковяк, полька, мазурка, русский бальный, большой вальс и другие. Они и в городе усиленно насаждались «сверху» в противовес популярным тогда танго, фокстроту, румбе, которые теми же сферами и с не меньшим усердием зажимались как «тлетворное порождение буржуазной культуры». Используя полученные на уроках навыки, мы достаточно легко осваивали самостоятельно и все другие интересующие нас виды танцев. Отработка наиболее замысловатых фигур, которыми особенно изобиловала очень быстрая и забористая «линда» – предмет повального увлечения тогдашней молодёжи – нередко проходила и на самоподготовке, и в свободное время. В общем, танцы, на мой взгляд, принесли нам ощутимую пользу. Занятие ими способствовало избавлению одних от неуклюжести и мешковатости, других от зажатости, третьих от излишней развязности и так далее, а также познакомило нас с азами цивилизованного поведения в «приличном обществе». На примере своего преподавателя мы смогли наглядно представить и оценить красоту хороших манер. Соответственно резко убавилось наше мальчишески-легкомысленное пренебрежение этой стороной своего облика. У многих возникло желание выработать и у себя такой же притягательный стиль. Наконец, сама природа классического бального танца, усиливаемая непроизвольно создающейся на уроках особой, непривычной для нас атмосферой благовоспитанности, положительно влияла на формирование у нас основ, скажем так, «рыцарского» отношения к женщине – партнёру по танцам и более слабому созданию. На деле это был результат опыта преподавателя и её безупречных манер. Что касается включения в программу обучения второго иностранного языка (в половине классов, в том числе нашем, изучали немецкий, в другой половине – французский), то это был, пожалуй, перебор. В этом вопросе возобладали скорее соображения ложного престижа, чем здравого смысла. Ведь было бы гораздо рациональнее и полезнее сосредоточить все усилия на обучении английскому языку, и, освоив его в достаточной степени, переходить, по возможности, ко второму. А одновременное изучение двух иностранных языков в условиях училища явно выглядело «маниловщиной». Затраченные на второй иностранный язык учебные часы и усилия, окончившиеся практически ничем, следовало бы использовать для более глубокого овладения английским, который, как известно, морякам необходим профессионально. Хотя этому языку в училище и уделялось повышенное внимание, с сожалением надо признать, что за всё время учёбы (7 лет!) английский мы так по-настоящему и не освоили. В первую очередь это касается разговорной речи. Соответствующей практики (только на уроках языка) было недопустимо мало. Почему-то упор в процессе нашего обучения осуществлялся на чтение текстов и перевод. Это, возможно, и оправдано при подготовке сотрудников научных учреждений, но далеко не достаточно для моряков – практиков. В итоге степень нашего владения английским вполне исчерпывалась стандартным ответом на соответствующий вопрос анкет, которые нам приходилось впоследствии заполнять: «пишу и читаю со словарём». А ведь по существу нам требовалось ещё очень немного, – может быть, дополнительно два-три десятка часов усиленной разговорной практики, чтобы, закрепив свои знания и далеко не бедный словарный запас умением пользоваться английским в повседневной жизни, выйти из училища, владея им более или менее свободно. Но в рамках учебного процесса эта возможность была упущена, а свойственная юности беспечность помешала реализовать этот шанс самостоятельно. Да и в обществе, надо сказать, отсутствовали тогда соответствующие стимулы. Напротив, порой кажется, что подобное отношение к конечному результату в данной области (в ВУЗах положение было не лучше), имело под собой скрытую идеологическую подоплёку, ибо знание иностранного языка населением существенно затруднило бы его изоляцию от «тлетворного влияния Запада».
«Как закалялась сталь»
Говоря об учёбе нашего поколения и шире – о его воспитании, нельзя не остановиться более подробно на идеологических установках, которыми, благодаря упорной и целенаправленной работе партии, были буквально пропитаны упомянутые процессы. Без учёта этого фактора уже нашим внукам, не говоря о более отдалённых поколениях, будет невозможно уяснить – далее цитирую своего однокашника – «что нам втюхивали, как втюхивали», насколько глубоко мы это воспринимали. И соответственно: какими мы были, почему такими стали, что составляло основу нашего мировоззрения. Советская школа, которую нашему поколению выпала судьба пройти от начала до конца, была официально устремлена компартией на формирование «нового человека – строителя коммунизма». Поэтому именно в ней, как ни в какой другой, уделялось максимум внимания воспитанию в учениках таких неотъемлемых для «нового человека» качеств как гражданская и общественная активность, самостоятельность (точнее – инициативность), моральная чистота. Подобную устремлённость воспитательного процесса следовало бы только приветствовать, но, к сожалению, при этом слишком жёстко была задана извне колея, по которой он направлялся, и предельно сужены рамки проявления указанных качеств. Колеёй служили партийные решения, отклонения от которых не допускались ни «вправо», ни «влево». Рамками были провозглашаемые и последовательно осуществляемые во всех сферах жизни принципы: примат общественных (сиречь партийно-государственных) интересов над личными и право общества (опять же партии и государства) на этой основе контролировать и «направлять» как трудовую, так и личную (включая моральную и духовную стороны) жизнь каждого члена общества. Программа средней школы, уже отработанная и просеянная сообразно этим идеям, в первую очередь по предметам, касающимся духовного мира ученика (литература), законов развития общества (история), естествознания (основы дарвинизма) и так далее, представляла собой монолит без единой щели, в которую возможно было бы проникнуть свежему воздуху сомнения или, тем более, просунуть лезвие критики. Всё, что было написано или сказано когда-либо «вождями», преподносилось как окончательная истина и являлось той «печкой», от которой должен был «танцевать» любой учащийся.
Наши преподаватели
Хотя учебный процесс сам по себе вещь достаточно рутинная, скучноватая, и в отношении к нему ученика частенько преобладает желание «спихнуть» изучаемый предмет с наименьшими усилиями, а не получить прочные знания, нас учёба увлекала, и большинство ребят относились к ней серьёзно. Этому способствовали не только реальная угроза неувольнения за двойку, хотя для отдельных нерадивых это было по существу единственным эффективным средством как-то приохотить их к учёбе, но и высокий профессионализм (за очень редким исключением) педагогов, как правило, колоритных и интересных людей. В своём большинстве это были мужчины солидного возраста с богатым опытом, уверенные в себе, способные без видимого напряжения твёрдо держать класс в руках. Поскольку в результате войны мужской контингент школьных учителей очень сильно поредел и больше не восстанавливался, преподаватели такого уровня были большой редкостью. Наличие их у нас объясняется не столько блестящей работой кадровиков училища, сколько некоторыми материальными преимуществами, которые, благодаря опять же прозорливости высшего командования ВМФ, имели гражданские преподаватели училищ. В частности, многие из них были одеты в морские офицерские кители, приобретаемые, надо полагать, преподавателями в вещевой службе училища по государственной цене, которая тогда была почти символической. Возможно, такой порядок распространялся и на другие предметы обмундирования, что в условиях тотального вещевого дефицита было немалым подспорьем. Преподавали нам и женщины, в основном, «языковые» предметы. При этом учительницы русского языка и литературы (их было две-три) были все опытные и уже в возрасте, а довольно многочисленные «иностранки» – сплошь молодые и привлекательные. Более конкретный разговор об учителях и изучаемых с ними предметах хочу начать с литературы. Именно этот предмет, наряду с историей, является, на мой взгляд, тем стержнем (и одновременно питательной средой), вокруг которого формируется и получает обильную пищу стремительно развивающийся духовный мир подростка. Это остаётся в большой степени справедливым и для нынешнего времени. Разбудить душу подрастающего человека, наполнить её теплом и светом высоких идей, мыслей и побуждений, раскрыть красоту и величие личности, преодолевающей себя, остающейся наперекор всему благородной, честной и мужественной, стремящейся сделать лучше жизнь людей и окружающий мир, возможно, по моему убеждению, только на основе углублённого восприятия подростком лучших образцов классической литературы. Именно эту литературу, созданную художниками блестящего мастерства и тонкого вкуса, проникнутую гуманизмом и верой в высокое призвание человека, должна использовать и умело, с необходимым тактом пропагандировать школа, имея своей главной целью «воспитание чувств» подростка и лишь затем – его обучение. Выбирая при этом произведения, соответствующие возрасту и доступные пониманию ученика, созвучные его жизненному опыту и психологическому настрою. Вернусь, однако, в 1946-й год, на урок литературы нашего 132-го класса. Ведёт его преподаватель Купрессов, тема – древнейший русский литературный шедевр «Слово о полку Игореве». Классное помещение наше находится на третьем этаже правого (если смотреть с плаца) крыла главного здания, выходящего на 12-ю Красноармейсую. Первая дверь с правой стороны узкого полутёмного коридора, разделяющего попарно четыре аудитории. Помещение типично школьное. Через него до нас, видимо, прошло немало поколений учеников. На стороне противоположной входу три широкие окна, выходящие на внутренний квадратный двор. Парты установлены в четыре ряда. В рядах у стенок по четыре парты, в средних рядах (они плотно сдвинуты) по три, перед ними стоит стол учителя. Довольно массивная филёнчатая входная дверь со световым окном в коридор расположена близко от правой стены, на которой висит классная доска. Перед дверью, между партами, доской и окнами свободное пространство примерно в четверть площади класса. Чуть слева от входа, посредине между дверью и учительским столом с потолка вертикально уходит в пол дюймовая водопроводная труба, назначение которой и причина такого диковинного её расположения так и остались нам неясными (года через два трубу убрали). Я и Серёжа Никифоров сидим в самом углу, на последней парте первого от двери ряда, перед нами Саша Гамзов и Рэм Гордеев, рядом во втором ряду парт – Лебедев и Лотоцкий, в стык с ними в третьем ряду – Олег и Дима Кузнецовы. В классе тепло, светло и в целом довольно уютно. Негромко звучит размеренный голос Купрессова. Изучение «Слова» мы уже завершаем, и сегодня идёт разбор наших сочинений на соответствующую тему. Тональность преподавательского монолога периодически переходит от выспренно-торжественной, когда речь заходит о высоких достоинствах самого произведения и таланте его безымянного автора, до плохо скрываемой пренебрежительной, которую, как он даёт нам понять, только и заслуживают жалкие результаты наших «литературных» потуг. Рассуждения Купрессова мы слушаем вполслуха. В первую очередь нас интересуют оценки. Очень много троек, лишь несколько четвёрок. Краткой, но достаточно веской похвалы удостаивается только одна работа: преподаватель отмечает, что в сочинении Юры Клубкова слог более всего соответствует лирическому настрою, а содержание – патриотическому духу «Слова». Процитированные при этом выдержки из сочинения своим возвышенным стилем очень напоминают речи самого Купрессова. Юра, без сомнения, заслуженно получил пятёрку, независимо от того, был ли он по-настоящему искренен в выражении своего отношения к «Слову», или просто смог удачно сымитировать пафос преподавателя. Думаю, что скорее первое, но, тем не менее, это не уберегло Юру от иронии Саши Гамзова. Всем было ясно, кого он имеет в виду, когда, изобразив постную мину и возведя очи горе, время от времени патетически восклицает: – О, Русская земля, ты уже за холмом!… Надо сказать, что у нас, подростков, именно лиризм и возвышенность авторского языка «Слова» не находили в душе отклика. Соответственно своему возрасту мы воспринимали, прежде всего, фактическую сторону сюжета. Князь Игорь, проигравший сражение, оказавшийся в плену, своей бесславной судьбой не вызывал у нас особой симпатии. А все сопутствующие этому трагические обстоятельства, глубокие переживания героев и сам высокохудожественный образный строй повествования, мы ещё не были в состоянии как следует прочувствовать и осмыслить. Мы просто не доросли до уровня, позволяющего оценить этот шедевр по достоинству. Однако, благополучно «пройдя» его в соответствии со школьной программой, получали основание считать, что знакомство со «Словом» состоялось в достаточном объёме. В то же время сложившееся в школе представление об этом произведении, по сути весьма поверхностное и искажённое, отнюдь не способствовало желанию вернуться к нему в последующем. К сожалению, по указанным причинам сходная участь постигала большинство изучаемых в школе выдающихся литературных произведений. Составители школьных программ, похоже, следовали в этой области не требованиям и возможностям возрастной психологии, а гораздо более удобному и простому хронологически-валовому принципу. В результате получался, с моей точки зрения, просто абсурд, когда глубинно-философских Достоевского и Толстого мы «проходили» гораздо раньше, чем, к примеру, плакатно-прямолинейных Николая Островского и Александра Фадеева. На втором курсе Подготии (9-й класс школы) литературу у нас вела М., по нашим меркам уже довольно пожилая женщина. Высокая, стройная, несмотря на возраст, с правильными чертами лица, впечатление от которого несколько портили длинные и слегка выдающиеся вперёд зубы. Она, несомненно, была опытным и добросовестным преподавателем. В соответствии с программой на её долю пришлись все русские классики XIX века, исключая, кажется, ранее пройденных Пушкина и Лермонтова, – как раз наиболее доступных и интересных нам не только своим блистательным талантом, но и романтической судьбой. А произведения писателей, составляющих великую когорту «критического реализма», с их интересом к «маленькому человеку», «лишним людям», повествующие о пустоте и трагизме обыденности окружающего бытия, в силу понятной ограниченности жизненного опыта не очень затрагивали нас. К тому же в глубине души (не без влияния, пожалуй, официально провозглашаемой точки зрения) мы считали, что всё, о чём писали классики, ушло в прошлое и к нам, живущим совсем в другой, социалистической эпохе, уже не имеет прямого отношения. Очевидно, чтобы пробиться через эту корку непонимания и предубеждения, разбудить у нас интерес к классикам в той мере, какой они заслуживают, от преподавателя требовались немалое мастерство, сила убеждения, даже душевный жар. Как раз последнего у М. явно недоставало: уроки она вела ровно, без эмоций, сугубо в рамках учебника и, как следствие, довольно скучно. В результате у большинства ребят интерес к литературе резко упал, а внешняя сухопарость М., усиленная сухостью преподавательской манеры, с неизбежностью определили и её прозвище: «Вобла». В то же время М. обладала и несомненным достоинством: у нее не было «любимчиков», ко всем она подходила с одинаковой долей строгости и требовательности. Однако этого было недостаточно, чтобы уберечь М. от проявлений нашей антипатии, сделавшей возможным инцидент, о котором речь пойдёт ниже. В соответствии с программой по литературе, нам полагалось выучить наизусть больше десятка стихотворений, и по мере готовности сдавать их М. Факт сдачи каждого стихотворения отмечался в классном журнале соответствующей оценкой. Уберегая свой мозг от столь тяжёлой нагрузки, наши лентяи, ведущее место в их числе принадлежало, естественно, Рождественскому, избрали другой путь: пользуясь тем, что журнал на перерывах между уроками часто оставался в классе, они принялись выставлять себе оценки сами. Поначалу всё было тихо, и лентяи ликовали: – «Вобла» ничего не замечает!». Тогда не устояли перед соблазном и некоторые вполне хорошие ученики (помню, что в их числе был и Саша Гамзов). Однако у М. имелся свой учёт, и в один прекрасный день обман был раскрыт. На ближайшем уроке все любители «лёгкой жизни», невзирая на лица, получили хорошую вздрючку и вдобавок по жирному «гусю» (двойке) на месте каждой фальшивой оценки. У некоторых, особо отличившихся, их набралось до полудюжины. Попытка Миши Рождественского сбить М. с толку наглым воплем: – Я вам сдавал! – натолкнулась на её спокойный ответ: – Ну что ж, идите и прочитайте стихотворение ещё раз. Сразу сбавив тон, Миша проворчал: – Ну вот ещё, буду я их помнить после того, как сдал. Надо сказать, что в те времена, когда по существующему порядку ответственность за успеваемость учеников преподаватель нёс едва ли не большую, чем сами ученики, поступок М., недрогнувшей рукой выставившей в журнал по своему предмету сразу больше двух десятков двоек, свидетельствовал о твёрдости как её принципов, так и характера. Но мы, в первую очередь те, кого эти достойные уважения качества непосредственно задели, были ещё не способны воздать им должное. «Пострадавшие» жаждали отмщения, и оно не замедлило последовать. В кабинете «Основ дарвинизма», которые вёл у нас упитанный ироничный жизнелюб С.Ф. Аброскин, в застеклённых шкафах стояло множество разнокалиберных склянок с заспиртованной «живностью». Появившийся однажды в нашем классе на преподавательском столе небольшой заполненный прозрачной жидкостью цилиндрический сосуд был явно «позаимствован» из этого кабинета. В сосуде вместо прежнего экспоната плавала продолговатая бумажка, на которой был изображён рыбий скелет с чёткой надписью внизу: – «Вобла». Можно только вообразить, что почувствовала М., придя на урок и увидев это на своём столе. Ибо на лице её не дрогнул ни один мускул. Оба урока она провела в своём обычном стиле – строго и суховато, хотя эта гадость так и оставалась маячить перед ней. Думаю, что многие ребята, как и я, в душе сочувствовали учителю и ощущали стыд за эту злобную и трусливую выходку, но ни у кого из нас не нашлось, к сожалению, мужества преодолеть ложное чувство ученической солидарности и убрать склянку. Хотя сознание того, что поступить по велению совести решимости не хватает, ещё больше усиливало чувство стыда. В связи с этим позволю себе отступление. Подобный жгучий стыд я уже испытывал в школе в 7-м классе на уроках физики. Во внешнем облике преподавателя Афанасьева – мужчины слегка за тридцать с приятным добрым лицом и неторопливого в движениях – не было заметно никаких изъянов, но что касается его характера, то это был именно тот случай, когда достоинства, превосходя всякую меру, становятся недостатками. Мягкий, деликатный, терпеливый (каждый из этих эпитетов хочется предварить словом «сверх») он абсолютно не мог постоять за себя, одёрнуть зарвавшегося нахала, поддерживать в классе хотя бы видимость порядка. Не буду описывать творившийся на его уроках бедлам. Это легко представить, поскольку уроки отличались от перерывов лишь тем, что «Афоня» среди общего гвалта сначала пытался кого-то «опросить», а затем как-то объяснить новый материал. Ученики при этом переговаривались, почти не снижая голоса, некоторые свободно перемещались по классу и так далее. Преподаватель лишь изредка бросал на них кроткий, больше недоумевающий, чем осуждающий взгляд. При этом казалось, что даже такое проявление недовольства давалось ему нелегко. Этот взгляд вызывал у меня острую смесь стыда, жалости и сочувствия. Я с душевной болью ощущал, как незаслуженно страдает доброта только из-за того, что не способна себя защитить. Однажды, когда физик особенно натерпелся, мои переживания достигли такой силы, что, встретив его после уроков в школьной столовой, я подошёл к нему и попросил прощения «за наше безобразное поведение». Он изумлённо посмотрел на меня и ничего не ответил. Что было в последующем с этим человеком, не осталось в моей памяти. Не в пример «Афоне», М. обладала сильным характером, и самообладание, с которым она, казалось, игнорировала злосчастную склянку с «воблой», заронило во мне надежду, что эта реакция здорово разочарует, а то и посрамит инициаторов недостойной проделки. Но женская душа всё-таки не выдержала, и после окончания уроков М. разразилась кратким, но страстным монологом, в котором кипели негодование, горечь, обида и недоумение, смешанные с надеждой, что мы сможем всё же понять несправедливость нашего к ней отношения: – Думаете, вы только сейчас дали мне понять, каким прозвищем меня наградили? Да мне достаточно пройти мимо любой группы воспитанников, чтобы услышать вслед: «Вобла, Вобла»! Неужели вы не понимаете, что так себя вести – это не только дурное воспитание, это – позор! Ведь я вам в матери гожусь! Да и чем я заслужила такое отношение? – Обычно ровный и бесстрастный, сейчас её голос дрожал от волнения. Мы слушали М., затаив дыхание, но боюсь, что у тех, кто это затеял, крик её души вызвал скорее злорадное удовлетворение, чем угрызения совести. Ибо, к сожалению, далеко не всем присуща эта, наверно ниспосылаемая свыше, способность. Тем не менее, в последующем наши отношения с М. стали более корректными. Однако стиль преподавания у М. не поменялся, соответственно не повысился и наш интерес к классикам. Утешает то, что эту очевидную потерю каждый из нас имел полную возможность самостоятельно восполнить в течение последующей жизни.
Иосиф Моисеевич Меттер
В последний учебный год в Подготии нам явно повезло на преподавателя литературы. Иосиф Моисеевич Меттер дал это почувствовать с первого урока своей простой доходчивой речью, в которой своеобразно сочетались частая апелляция к здравому смыслу и обычным житейским понятиям, с широкой литературной эрудицией. Хотя он держался с нами неизменно дружелюбно и ровно, нарушать деловую атмосферу урока желающих не находилось. Во-первых, уроки проходили интересно, а во-вторых, даже самые толстокожие лентяи сразу почувствовали за внешней простотой силу преподавательского интеллекта, его способность походя, лишь небрежным словесным щелчком, поставить на место любого, кто рискнёт выйти за рамки приличия. Да и внешне он выглядел внушительно: высокий, грузноватый в свободно сидящем морском офицерском кителе. Лёгкая хромота не портила его хорошую осанку. Круглое лицо с широким прямым слегка приплюснутым носом, живые небольшие глаза за стёклами очков в круглой роговой оправе, лоб, увеличенный залысинами коротко стрижённых тёмных с проседью волос, чёткая уверенная с лёгким пришёптыванием речь, при которой слова, несущие главную смысловую нагрузку, выделялись не только интонацией, но и выразительным движением губ, – всё это уже само по себе привлекало внимание. Однако главное, что отличало И.М. Меттера от предшествующих преподавателей, заключалось в его подходе к разбору литературных произведений. Преподносимые ранее на уроках возвышенно-академические или сухо-официальные трактовки, воспринимаемые нами достаточно отвлечённо, сменились доходчивым, основанным на доступных для нашего понимания жизненных реалиях, анализом, излагаемым к тому же в живой, импровизационной манере. Эти уроки я вспомнил позже, читая талантливую повесть Израиля Меттера «Ко мне, Мухтар». В ней автор – брат нашего преподавателя – тоже через неяркие, порой подчёркнуто обыденные события, убедительно раскрывает внутренний мир своего героя и его взаимоотношения с окружающими. Видимо, братья тесно общались между собой и придерживались в литературе сходных позиций. В ходе опросов или в процессе изложения нового материала И.М. Меттер нередко переходил к диалогу, добиваясь от нас самостоятельных, без оглядки на учебник, суждений. При этом нельзя не вспомнить, какое тогда было время. Недавнее пресловуто-позорное Постановление ЦК КПСС «О журналах «Звезда» и «Ленинград» буквально заковало нашу литературу и искусство в идеологические колодки. Быть честным художником стало смертельно опасным делом. И раньше творчество российских писателей и поэтов конца девятнадцатого и начала двадцатого столетия, создавших своим творчеством «Серебряный век» русской литературы, но не принявших Октябрьскую революцию и критически воспринимавших происходящие преобразования, фактически находились под запретом. В библиотеках нельзя было получить не только эмигрантов И. Бунина, Д. Мережковского, З. Гиппиус, Г. Иванова и других известных литераторов, не скрывавших своего резко отрицательного отношения к большевикам, а тем более Н. Гумилёва, расстрелянного ЧК в 1921-м году. То же можно сказать о писателях и поэтах, проживавших или живущих в СССР достаточно длительное время и старавшихся, не теряя лица, более или менее лояльно относиться к властям: М. Булгакове, А. Ахматовой, О. Мандельштаме, Е. Замятине, И. Бабеле, А. Платонове, М. Зощенко и других выдающихся мастерах. Писатели этой группы замалчивались и преследовались по сути лишь по той причине, что в их произведениях, талантливых и самобытных, отсутствовали безудержное славословие партии, вождей, их «великих свершений», а так же та словесная мишура, которую конъюнктурщики и дельцы от литературы именовали «социалистическим реализмом». Д. Шостакович определил этот термин как «искусство восхвалять начальство в рамках для него дозволенных». И хотя многие из тех, кого я перечислил, и ещё многих не смог, были нашими современниками, и те из них, кому посчастливилось избежать руки КГБ, жили и творили под одним с нами небом, узнавать об этих людях, составивших золотой фонд и гордость нашей словесности, мы стали только к концу XX века. Не трудно теперь представить, насколько однобокое, даже извращённое, представление о советской и русской литературе получали мы в то время в школе без знакомства с важнейшим её пластом. Иосиф Моисеевич Меттер, без сомнения, многое знал и мог сообщить нам, однако не было случая, чтобы он вышел за рамки программы. Подобная осторожность была совершенно оправданной: в городе свирепствовало так называемое «ленинградское дело», и за одно неудачное слово можно было поплатиться жизнью. Тем не менее, благодаря своему педагогическому мастерству, блестящему знанию предмета, широкой эрудиции, наш преподаватель, даже на том предельно выхолощенном материале, который диктовала программа, сумел не только пробудить у нас интерес к литературе, но и дал чёткое представление о критериях, сообразуясь с которыми, следует оценивать литературные произведения. Вряд ли кто в той обстановке смог бы сделать больше.
Яков Платонович Платонов
На учителя математики нам повезло сразу. Все три предмета этого профиля (алгебру, геометрию и тригонометрию) с 1-го курса преподавал в нашем классе начальник цикла математики майор административной службы Платонов Яков Платонович. Высокий, худощавый, в хорошо сидящей форме морского офицера, он, тем не менее, своим степенно-невозмутимым обликом, тяжеловатой походкой, задумчивым, обращённым внутрь себя взглядом производил впечатление сугубо штатского человека. Яков Платонович, скорее всего, принадлежал к числу тех естественно-устойчивых натур, внутреннее самочувствие и стиль поведения которых не зависят от смены одежды или окружения. Удлинённое с соразмерными чертами слегка землистое без румянца лицо Якова Платоновича из-за приопущенных уголков рта постоянно сохраняло оттенок лёгкой брезгливости. В сочетании со сдержанностью в общении, скупостью эмоций и жестов, весьма лаконичной негромкой речью, всё вместе взятое создавало впечатление некоторой отчуждённости, даже надменности. Однако на уроках это ощущение пропадало. Я.П. Платонов вёл урок спокойно, с учениками был неизменно ровен и корректен, лишь в редких случаях позволяя себе чуть заметную иронию по поводу чьих-нибудь отчаянных попыток удержаться «на плаву». Объясняя новый материал или спрашивая заданный урок, он не изменял своему обыкновению и обходился минимумом слов. Во многом их заменял внимательный взгляд его слегка выпуклых светло-голубых глаз, от которого не ускользали ни уровень участия в восприятии материала, ни степень его понимания каждым из нас. В редких случаях следовали один-два уточняющих вопроса и, если требовалось, краткое спокойное пояснение. Этого было достаточно, чтобы на уроке поддерживались соответствующие напряжение и интерес. Нередко при изложении темы Яков Платонович останавливался на роли в её разработке русской математической школы. Особенно часто упоминал он выдающихся её представителей – Лобачевского и Чебышева. Однако в противовес всемерно насаждающемуся в то время стремлению всем сколько-нибудь заметным достижениям в науке и технике приписать российский приоритет, примеры, которые использовал Платонов, были сугубо конкретны и без следа бахвальства. Этот очень сдержанный, закрытый до непроницаемости человек за все семь лет учёбы не сказал нам ни одного слова, которое вышло бы за рамки его предмета. Своим безупречным профессионализмом, просвечивающей сквозь внешнюю сухость человечностью, брезгливым неприятием конъюнктуры, несуетным достоинством, оказывал на нас (во всяком случае, на меня) сильное облагораживающее влияние. Со школьной скамьи стремился я выработать умение владеть собой, сохранять в любых обстоятельствах спокойствие и трезвый ум. Казалось бы, данные мне от природы сдержанный темперамент и миролюбивый характер, создавали неплохие «стартовые условия» для выработки желаемых качеств. И манера Я.П. Платонова держать себя были наглядным образцом, следовать которому я стремился, будучи в училище, да и в последующие годы. Но надо признать, что желанной цели я так и не достиг. И сейчас ещё, гораздо чаще, чем хотелось бы, случаются моменты, когда эмоции оказываются сильнее меня. На собственном опыте я убедился, насколько трудно научиться управлять своими чувствами, и как правы те семьи, где у ребёнка начинают воспитывать самообладание одновременно с умением говорить.
Ещё об учёбе и учителях
Тему учёбы заканчиваю с некоторой грустью. Учиться я всегда любил, к преподавательскому труду относился с уважением. Прошедшее время в предыдущей фразе не совсем уместно – всё это осталось и сейчас. Как мне кажется, именно в период учёбы в последних классах средней школы внутренние миры учеников и их учителей имеют возможность соприкоснуться наиболее тесно. В это время ученик уже достаточно повзрослел, чтобы ощутить и сложность окружающего мира, и осмысленное влечение к его познанию, но ещё не утратил ребячьей доверчивости к слову и к способности учителя всё объяснить. И хотя эта вера неизбежно проходит, благодарная память о состоявшемся душевном контакте остаётся у ученика надолго, у многих до конца жизни. Отдам дань этой памяти, упомянув ещё несколько фамилий наших подготских преподавателей. Историки – Морозов (ниже о нём будет сказано подробнее) и сменивший его основательный Ерюхин (запомнились таинственно-доверительные интонации, то и дело проскальзывавшие у него при изложении даже весьма простого материала, и каллиграфический почерк, которым он писал на доске даты исторических событий). Географ – флегматичный и дородный Архангельский М.Н. Физик – темпераментный Никифоров П.П. У меня с ним случились небольшие проблемы по действовавшей тогда системе единиц CGSE. Чтобы получить пятёрку, пришлось сдавать систему единиц повторно. Астроном – профессор, известный популяризатор науки Прянишников В.И. Преподаватель ВМП – корректно-спокойный капитан Похвалла Ю.Р. и его помощник, дотошно-аккуратный асс морской практики, уважительно-тактичный по отношению к «серым» пока в этом деле курсантам, но в будущем – флотским офицерам, мичман Цисевич Ф.Ф. Преподавательницы английского языка – миниатюрная с точёными чертами лица, несколько суховатая в обращении, что, впрочем, шло к её облику, Высоцкая О.Н. ???(литерат.?) и обаятельная, с живым темпераментом, распахнутым, ожидающе-удивлённым взглядом серо-синих глаз, сияющих над пикантно вздёрнутым носиком, приветливо-улыбчивая Черникова И.К. Упомяну ещё одного красивого человека, тоже имеющего к нашему образованию непосредственное отношение. Это заведующая училищной библиотекой Вера Александровна Малова. Деловая, энергичная, она, тем не менее, располагала к себе не частой в людях такого склада заинтересованной душевной манерой общения. В том, что проявляемое ею участие к нам не было поверхностным, я смог убедиться сравнительно недавно на собственном примере. Предварительно следует сказать, что во время учёбы я ничем особенным не выделялся среди других читателей библиотеки. Правда, когда мне приходилось брать книги, у нас с Верой Александровной, как правило, завязывался краткий разговор, не выходящий, впрочем, за пределы литературы. Учитывая, что Вера Александровна в училищной библиотеке работала до пенсии и ещё после неё, можно представить, сколько курсантских судеб и физиономий вроде моей прошло перед ней за это время. И вот получилось так, что впервые после выпуска мы встретились лишь в 1998 году на вечере по поводу 45-тилетия со дня окончания училища. Столкнувшись со мной взглядом, В.А. Малова после секундной заминки воскликнула: – «Лапцевич!». Потрясённый и растроганный, я обнял её и расцеловал. Ну, как тут удержаться, чтобы не повторить вслед за Лермонтовым: – Да, были люди в наше время!
Отцы – командиры
Предвижу, что, прочтя этот заголовок, кто-то поморщится от его литературной затёртости и посетует на скудость авторского лексикона, а кто-то учует в нём иронию. Тем не менее, термина, точнее отражающего суть того, о чём мне предстоит написать, найти невозможно. Ибо изначально это словосочетание было не теперешней уценённой погремушкой, а драгоценным знаком признания и любви подчинённых к своему командиру с давних времён. Если нашу курсантскую жизнь спроецировать на «гражданку», то учёба в классах заменяла нам пребывание в школе, а вся остальная жизнь, которая у подростка обычно проходит в семье и частично на улице, у курсантов вершилась в подразделении. И подобно тому, как моральный климат в семье во многом зависит от личности родителей, так и «жизненная атмосфера» воинского коллектива ещё в большей степени определяется служебным и человеческим обликом командиров. В условиях военно-учебных заведений основными фигурами в указанном смысле являются начальник училища, начальник курса (факультета) и командир роты. С момента организации нашего училища (1944-й год) его начальником был капитан 1 ранга Авраамов Николай Юрьевич. Затем с осени 1946-го года в этой должности короткое время пребывал контр-адмирал Кузнецов Константин Матвеевич, которого в августе 1947-го года сменил капитан 1 ранга Никитин Борис Викторович. Он и командовал училищем (сначала ЛВМПУ, а потом 1-м Балтийским ВВМУ) в течение всего остального периода моей учёбы на Приютском. Понятно, что я слишком далеко отстоял от этих людей по положению и возрасту, чтобы непосредственно контактировать с ними. Однако каждый, кто в училище служил, учился или работал, непременно ощущал на себе стиль и результаты их деятельности через вышеупомянутую «жизненную атмосферу». Курсантами в целом она воспринималась как спокойная, размеренно строгая, деловая, достаточно уважительная и к нам, и к служившим в училище офицерам. Думаю, что основы утвердившегося в училище стиля взаимоотношений были заложены Н.Ю. Авраамовым – выпускником Морского Кадетского корпуса. Насколько можно судить по мемуарной литературе о царском флоте, именно оттуда брала исток существовавшая тогда традиция корректного обращения друг к другу корабельных офицеров и, надо признать, определённого снобизма по отношению к «пехтуре». Сменившие Н.Ю. Авраамова начальники, вопреки поговорке о новой метле, придерживались такого же стиля руководства. К.М. Кузнецов и особенно Б.В. Никитин, окончившие училище уже в советское время, но обучавшиеся преподавателями и начинавшие службу с командирами в основном ещё старой закалки, стремились облагородить казённую атмосферу училища духом флотских традиций, привнести в его повседневную жизнь так называемую «морскую культуру». Определяющим принципом заложенного Н.Ю. Авраамовым и продолженного Б.В. Никитиным стиля руководства был, без сомнения, приоритет человеческого перед казённым, формально-буквоедским, показным. В нашем училище не приживались офицеры с замашками держиморд, холодные педанты, бездушные служаки – вообще поборники жёсткого командного стиля, ассоциирующегося с понятием «солдафонство». Соответственно не чувствовалось в училище давящего духа строевой муштры. Положения воинского уклада жизни и субординации, выполняясь в рамках Уставов, отнюдь не переходили границ здравого смысла и не доводились до абсурда. Строевыми занятиями нас основательно донимали лишь в сравнительно короткие периоды подготовки к парадам. Но это, как говорится, и сам Бог велел. Стиль руководства упомянутых начальников находил своё конкретное воплощение и в таком, особенно значимом для учебного заведения деле, как подбор кадров офицеров – воспитателей. Нет сомнения, что благодаря именно этому обстоятельству, а не каким-то счастливым совпадениям, нашим командирам рангом пониже – практически всем, кто у нас задерживался в этом качестве надолго – была присуща, при всех различиях их характеров, ума, темперамента, общая черта, вернее свойство души, определяемое ёмким понятием – ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Для работы воспитателем, особенно среди детей и подростков, это качество, на мой взгляд, даже важнее, чем формально приобретённый профессионализм. Наши командиры не были специалистами – воспитателями. Это были обычные офицеры, как и большинство в то время, прошедшие фронт, имеющие боевые награды и ранения. Далеко не всем из них удалось получить высшее образование. Многие свои офицерские звания заслужили в годы войны – непосредственно на фронте или после краткосрочных курсов. У всех наших командиров за плечами была суровая жизненная школа, испытания которой, тем не менее, не озлобили и не ожесточили их души. Напротив, пройдя своё «горнило» они стали мудрее, человечнее. Можно сказать, что наших командиров воспитателями сделала война.
Иван Сергеевич Щёголев
Начальником нашего курса в течение всего периода учёбы в подготовительном училище и почти всего – в высшем был Иван Сергеевич Щёголев. Вместе с нами он прошёл свой офицерский путь от капитан-лейтенанта до капитана 2 ранга. Звание капитана 1 ранга Иван Сергеевич получил уже после нашего выпуска. Но и выйдя в самостоятельную жизнь, мы не теряли связи со своим командиром. Напротив, с годами она крепла и, по мере нашего взросления, переходила в духовную близость, которую наш курс сохранил до конца его жизни.
Иван Сергеевич ЩЁГОЛЕВ
Иван Сергеевич не только помнил всех нас (более трёхсот человек!) поимённо, но и, поражая всеохватностью своей памяти, с глубокой заинтересованностью следил, как складываются служебные и личные дела каждого. Независимо от того, каким был курсант во время учёбы – примерным или разгильдяистым – и насколько успешно протекает его последующая служба или гражданская жизнь, он к каждому проявлял отеческое внимание и стремление помочь. Мне кажется, немного найдётся тех, кто не побывал в его скромной квартире на Авиационной улице и не ощутил тепло домашнего очага Ивана Сергеевича и его супруги – уравновешенной симпатичной домовитой Елены Ивановны. Но всё это складывалось постепенно, в течение многих лет. А при наших первых встречах мы увидели высокого, стройного морского офицера элегантно, даже с лёгким шиком одетого, порывистого в движениях, эмоционального, с подвижной и широкой гаммой настроений – от открытого и доброжелательного до вспыльчивого и резкого, однако явно не злого и отходчивого. Иван Сергеевич располагал к себе сразу, и это впечатление в последующем углублялось удивительно редким соответствием его внешнего и внутреннего облика. Черты лица Ивана Сергеевича нельзя было отнести к классическим, но их соразмерность и «необщее выражение» делали лицо приятным, даже красивым, и запоминающимся. К тому же оно излучало обаяние, ещё более возрастающее при улыбке – простой, ясной и чуть трогательной из-за неожиданно возникающих на щеках почти детских ямочек. В этой улыбке приоткрывалась душа Ивана Сергеевича, в которой врождённая человечность, размах молодости и флотская лихость спорили с приобретаемой уже зрелой осмотрительностью. Пожалуй, единственной деталью, которая в общении с Иваном Сергеевичем могла несколько озадачить, была своеобразная словесная форма, в которую он в некоторых случаях облекал свои эмоции. В спокойной обстановке Иван Сергеевич говорил, как правило, рассудительно, умно и по-своему образно. Но, будучи по характеру человеком легко возбудимым и открытым, он, сталкиваясь с каким-либо непорядком или нарушением в своей «епархии», довольно быстро утрачивал хладнокровие. В этом случае его эмоции обгоняли мысль, мысль не успевала оформиться в гладкую фразу, и в результате рождался довольно «заковыристый» словесный «перл», надолго западающий в память. Поскольку, как известно, подчинённым в глазу начальника заметна любая соринка, «словесные курьёзы» Ивана Сергеевича становились частенько объектом наших шуток и иронии. Приведу – для полноты картины, отнюдь не с целью смакования – некоторые из оставшихся в памяти (к сожалению, сохранились не самые забавные): – Ну что вы смотрите на меня, как…жук из-под шкафа? – обращался он к курсанту, бросающему на него взгляды исподлобья, когда ему сделали замечание. Вообще, «жук» и «шкаф» в его сравнениях фигурировали нередко. Встретив уныло бредущего, неряшливо одетого курсанта, Иван Сергеевич сразу взрывался: – Курсант (имярек), почему вы такой мятый, как всё равно жук, вылезший из-под шкафа?! Распекая перед строем двоечников, он пригрозил: – Вот отчислим вас, и пойдёте тогда учиться на аптекарей или… гуммиарабиков! (В то время гуммиарабиком называли распространённый вид канцелярского клея, а Иван Сергеевич имел в виду гуманитариев). Постепенно Иван Сергеевич всё более умело и уверенно управлял своими эмоциями, соответственно свободней и правильней становилась его речь. Не исключено, что упомянутые выше затруднения в этой части вообще были следствием военной контузии. А о том, что наш начальник курса воевал хорошо и храбро, свидетельствовал красующийся на его кителе орден Боевого Красного знамени. После окончания ВВМУ имени Фрунзе в 1940-м году Иван Сергеевич служил на малых охотниках – этих тружениках боевой и повседневной флотской работы: дозоры, постановки мин, охота за подводными лодками и многое другое. В наше училище он был определён в конце 1945-го года из-за ограничений по здоровью вследствие тяжёлого ранения, полученного в ходе отражения его катером атаки немецких самолётов. После двух крупнокалиберных пуль, растерзавших грудную клетку Ивана Сергеевича, врачам чудом удалось спасти ему жизнь. Можно сказать, что это было его второе рождение. Дату появления Ивана Сергеевича на свет мы не могли не запомнить: это произошло на второй день Октябрьской революции – 8-го ноября 1917-го года в деревне Щербинино Калужской области. В командование нашим курсом Иван Сергеевич вступил, имея за плечами 28 лет, вместивших уже два года (с16-ти лет) работы слесарем на ленинградском заводе «Объединённый металлист», комсомольский набор на флот, училище, войну (Балтийский флот), тяжёлое ранение. Воспитание будущих морских офицеров надолго стало главным делом и смыслом его жизни. Он набирался опыта вместе, а точнее – параллельно с нами, неизменно оставаясь при этом для абсолютного числа своих подопечных не только авторитетным начальником и уважаемым человеком, но и неким притягательным эталоном. Сначала – как заманчивый для любого подростка образец эффектного сочетания красивой морской формы и не менее привлекательных внешних данных её обладателя, затем – как пример офицера, естественно и органично сочетающего в себе качества взыскательного командира, заботливого воспитателя и порядочного человека. А когда уже и сами мы стали близки к пенсиям и отставкам – как идеал благородной и красивой старости. Разумеется, в последних двух ипостасях мы стали воспринимать Ивана Сергеевича лишь после того, как сами хлебнули командирской доли, узнали, так сказать, «что почём» и обрели собственную шкалу жизненных ценностей. А в училище, особенно в первые годы, как и полагается подросткам или зелёным юнцам, наше отношение к жизни и окружающим людям строилось главным образом на базе эмоций. При всей зыбкости и изменчивости указанной материи она, особенно в детстве, не подводит в одном – тонко и глубоко чувствует человеческую фальшь. Наш начальник курса обладал живым темпераментом с очень богатой палитрой чувств, однако фальши среди них не промелькнуло ни разу. Природа наградила Ивана Сергеевича Щёголева цельной с русским размахом натурой, устоявшей перед выпавшими на долю каждого из его поколения тяжёлым испытанием войной и жестоким лицемерием эпохи. Последнее в чём-то, может быть, и изменило нашего начальника курса, но испортить его не смогло. Если говорить о моих прямых контактах с Иваном Сергеевичем в период учёбы, то их было совсем немного. Об одном из них я уже рассказал (эпизод с приездом брата), других случаев моего обращения к нему по собственной инициативе не припомню. Как курсант дисциплинированный и успевающий в учёбе, не требовал я особого внимания со стороны Ивана Сергеевича. Правда, дважды он вызывал меня к себе для личной беседы, но об этом дальше, по ходу событий.
О роли командира роты
Ближайшим к курсантам офицером по своему служебному положению, согласно училищной иерархии, является командир роты. Он по должности несёт непосредственную ответственность за состояние и организацию жизни курсантов и за постановку воспитательной работы в своём подразделении. Соответственно от этого человека зависят и моральный климат в роте, и условия жизни курсантов, и в немалой степени восприятие ими требований воинской службы. В роте насчитывалось обычно более сотни курсантов. Наш первый курс ЛВМПУ с ротами по 50 человек был кратковременным исключением. Кроме командира роты, из числа постоянного состава в роте был ещё один человек, относящийся к ротному начальству – старшина роты. В этом качестве состоял старшина сверхсрочной службы. На этих двух лицах замыкались все вопросы повседневной жизни ротного коллектива: от поддержания в соответствующем виде помещений и территории, соблюдения курсантами требований учебного процесса и внутреннего порядка до осуществления разного рода политико-воспитательных мероприятий, как общих, так и конкретно-индивидуальных. С командира роты осуществлялся спрос за каждого курсанта. В первую очередь, естественно, в случае нарушения ими установленных требований. Спрос в наше время был жёстким и касался любых сторон курсантского бытия: от их внешнего вида, учёбы и службы, поведения в городе до морально-нравственного облика. Именно в этом в полной мере проявлялась воспитательная, можно даже сказать – отеческая, сущность его должности – трудоёмкой, кропотливой, требующей не только педагогических способностей, но и особого склада души. Пожалуй, не было такой недели, чтобы наши командиры рот не прибыли хотя бы раз к подъёму, не остались в роте до отбоя, не выступили на собрании, не провели каких-либо коллективных мероприятий, не говоря уже об индивидуальных беседах. Столь глубокое погружение в жизнь подразделения связано с необходимостью отдавать себя службе целиком. Даже интересы семьи отходят на второй план. Личный отдых, нормированный рабочий день, выходные – думать об этом считалось в то время для командира роты «дурным тоном». Такой режим работы и подобные нагрузки далеко не каждому по характеру и по силам. В то же время должность командира роты в училище существенно уступает по престижности и окладу, например, преподавательской. Хотя последняя, на мой взгляд, далеко уступает командирской и по своему вкладу (гораздо более частному) в решаемые училищем задачи, и по роли в судьбе курсанта, и, главное, по «штучности» настоящего командирского дарования. За всё время учёбы командирами рот, в которых привелось мне состоять, были: – в ЛВМПУ – на I курсе уже упоминавшийся капитан Кручинин, на двух последующих – капитан Моргунов Афанасий Петрович, – в 1-м БВВМУ – капитан 3 ранга Мудров Борис Николаевич, затем капитан Пороцкий Борис Симонович. Наш первый ротный – капитан Кручинин – чуть выше среднего роста, худощавый, с тонкими чертами красивого смуглого лица, запомнился своим стилем работы, который заметно отличал его от остальных офицеров курса. Похоже, замкнутый по натуре он держался отчуждённо и довольно редко появлялся перед строем роты. При этом – не в пример другим командирам – как правило, избегал обращаться к нам с изложением своих требований или претензий, а лишь с угрюмой задумчивостью наблюдал за строем, не мешая словесным излияниям своего ближайшего помощника. У старшины роты Николая Чаплыгина, напротив, тяга к многословию перед строем могла, пожалуй, уступить лишь его привычке подчёркивать по любому поводу авторитет своего звания – старшины сверхсрочной службы, которое, дескать, «не зря даёт право на ношение офицерского мундира». Однако, несмотря на эти потуги тщеславия, кругозор и общее развитие Чаплыгина едва ли выходили за пределы старшинского. Запомнилась, например, формулировка объявленного им курсанту взыскания: «за плохой беспорядок в тумбочке». Другой раз, взыскивая провинившегося, он в запальчивости нелепо оговорился: – Я ношу мундирский офицер! Эти фразы надолго вошли в арсенал ротных насмешников. Конечно, подобные слабости и оговорки на фоне суетных претензий не укрепляли авторитет нашего старшины, человека, хотя и несколько взбалмошного, но не злого и старательного. Из контактов с капитаном Кручининым в моей памяти сохранился лишь один эпизод. Однажды, ещё до начала учебного года, в одно из своих «явлений» перед ротой, Кручинин заметил, что я, находясь в строю, обратился с какой-то тихой репликой к стоявшему слева Серёже Никифорову. Капитан резко вскинул голову, глаза его блеснули и, сделав два быстрых шага в мою сторону, он вполголоса, но веско сказал: – После роспуска строя – ко мне! Входя в его кабинет, я понимал, что разговор будет неприятный, и меня наверняка ждёт наказание. Действительность, однако, превзошла мои ожидания. Едва я закрыл дверь и доложил о прибытии, командир роты набросился на меня, как голодный волк на овцу, и на высоких тонах стал внушать, что строй – святое место, что подобного безобразия он не потерпит, что я могу вылететь из училища и далее в таком же духе. Поначалу я оторопел: уж слишком смысл и, главное, тон учинённого капитаном разноса не соответствовал в, моём представлении, тяжести проступка. Ну, перекинулся в строю тихо парой слов с соседом – эка невидаль! За это, как правило, вообще не наказывали или ограничивались замечанием. И вдруг такая буря! Откричавшись, ротный почти нормальным голосом закончил: – На первый раз объявляю вам три наряда вне очереди. Идите и впредь ведите себя достойно! Я ответил: – Есть три наряда вне очереди, – повернулся кругом и вышел. Вышел, недоумевая по поводу столь бурно и, как мне показалось, несколько фальшиво разыгранной сцены. Испытывал к тому же досаду на неоправданную тяжесть полученного взыскания: будто после удара кувалдой там, где и молотка было более чем достаточно. Хотя Кручинин командовал нами около года, он так и остался для меня непонятной фигурой. Надо полагать, командование смогло разобраться в нём лучше, поскольку на следующем курсе у нас уже был другой ротный.
Афанасий Петрович Моргунов
Старший лейтенант (вскоре капитан) Моргунов Афанасий Петрович с первого взгляда производил впечатление основательного, спокойного, надёжного человека. У него были кряжистая среднего роста фигура, открытое простое лицо, над узким лбом растущая вверх волнистая шапка светлорусых коротко остриженных волос, серьёзный взгляд небольших серых глаз. Степенная манера держаться, неторопливая с лёгким оканьем веская речь придавали облику Афанасия Петровича располагающую к себе мужиковатость. Для своего звания наш новый ротный имел весьма солидный возраст – слегка за сорок. Скорее всего, он стал офицером уже в ходе войны и успел неплохо повоевать. Об этом свидетельствовал орден Отечественной войны 1-й степени на его кителе. Командирский стиль Афанасия Петровича вполне соответствовал его облику. Своё «хозяйство» он держал под неослабным вниманием, проводя много времени в роте и периодически учиняя «налёты» на наши спальни, пирамиды с оружием, баталерку, а так же другие места ротного заведования. Вернувшись в роту после уроков, мы нередко находили не радующие следы этих налётов: отметку «Г»(грязное) или «Р»(ржавое) против своей фамилии в журнале осмотра оружия, извлечённую из-под матраса запрятанную вещь, оставлять которую в прикроватной тумбочке было иногда нежелательно, а иметь под рукой хотелось, а то просто замечание в свой адрес, записанное дежурным по роте. Отмеченные недостатки требовалось устранять быстрее, ибо под угрозой было увольнение. Афанасий Петрович к нам был в меру требователен и строг, но ни его требовательность, ни строгость нас не давили. И то и другое естественно вытекало из складывающейся ситуации. Те, кому хотя бы немного пришлось покомандовать, знают, каким мастерством и человеческой чуткостью достигается подобное взаимопонимание. Все мы, его подопечные, были не ангелы, а скорее разболтанные более среднего подростки. Как и следует в этом возрасте, проделки и проказы считались у большинства основным способом самоутверждения. Реагировал на них Афанасий Петрович с неизменным спокойствием и хладнокровием. А когда он, медленно прохаживаясь перед строем, баритонисто, с оканьем принимался за их разбор и критику, логично и убедительно раскрывая пагубные последствия нашего разгильдяйства и лени, то казалось порой, что нам вещает сам здравый смысл. Проказы наши развенчивались, и от них, как правило, оставался лишь нехороший осадок. Как старшина класса, я довольно часто имел с ротным непосредственные контакты, но не припомню случая, чтобы его замечания, распоряжения, оценка ситуации вызывали у меня внутреннее несогласие. Да и на наши предложения Афанасий Петрович реагировал со вниманием. Единственно, к чему он относился если не равнодушно, то без энтузиазма, это к показухе. Его абсолютно невозможно было представить суетящимся, подобно некоторым офицерам, в стремлении выделиться перед начальством каким-нибудь скоропалительным начинанием «в духе последних решений». Напротив, со всеми окружающими он держался просто, скромно, с достоинством, а что касается начальников повыше, то скорее сторонился их, чем искал внимания.
ЛВМПУ, 1949 год. 322 класс слева направо. Первый ряд: Игорь Смирнов, Толя Осипов, Коля Кузовников. Второй ряд: Володя Шустров, Дима Кузнецов, Саша Гамзов, командир роты капитан Моргунов А.П., командир курса капитан-лейтенант Щёголев И.С., Марат Медведев, Костя Лебедев, Саша Лотоцкий. Третий ряд: Юра Клубков, Спартак Чихачёв, Боря Юргенсон, Эрнст Молчанов, Коля Лапцевич, Кирилл Маргарянц, Володя Матвеев, Олег Кузнецов, Коля Зимин
К сожалению, опыт показывает, что и начальники вспоминают об офицерах типа нашего ротного, лишь когда требуется взвалить на кого-то дело заведомо невыигрышное и тягомотное, но ответственное, и почти всегда забывают, пользуясь их терпением и скромностью, когда решается вопрос о наградах, повышении по службе, обеспечении жильём. Во время учёбы я лишь однажды заходил к Афанасию Петровичу домой с каким-то его словесным поручением жене (напомню, что тогда телефон в квартирах был большой редкостью). Жил наш ротный на одной из улиц между Технологическим институтом и Витебским вокзалом. И дом, и ведущая из двора-колодца лестница, типичные для недорогого бывшего «доходного» петербургского жилья, своей мрачноватой неказистостью честно предупреждали, что особого комфорта здесь ожидать не следует. Всё это подтвердилось, когда мы (со мной был ещё кто-то из нашего класса), поднявшись на третий или четвёртый этаж и отзвонив указанное в объёмистой табличке число раз, очутились в начале узкого, сразу уходящего вправо и теряющегося в дымке кухонного чада, коридора. Открывшая нам худая болезненного вида женщина в домашнем халате с утомлённым лицом и слегка растрёпанными волосами, видимо, и была женой нашего командира. Похоже, мы её оторвали от стирки. Она выслушала сообщение молча, с видом скорее равнодушным, чем приветливым, и мы расстались, не обменявшись даже парой хотя бы формально-любезных слов. Помню, покидал я этот дом, испытывая сочувствие к Афанасию Петровичу и досаду, что нашему командиру, офицеру заслуженному и немолодому, приходится жить в столь непрезентабельных условиях. Они явно были ничуть не лучше тех, в каких оказался после тюрьмы дядя Федя (о нём был рассказ в части 1 моих воспоминаний, помещённых в Книге 1). Так и прожил всю службу, и немало лет после неё, Афанасий Петрович в этой коммуналке. Лишь в средине 80-х, когда из-за фронтового обморожения ему ампутировали одну ногу, а затем и вторую, и покидать дом стало невозможно, он перестал надеяться на добросовестность властей и начал, наконец, проявлять настойчивсть для получения более подходящего жилья. Потребовались немалые хлопоты, чтобы пробить равнодушие чиновников. Но настойчивость наших ребят, его воспитанников, увенчалась-таки успехом. Афанасий Петрович с семьёй получил весьма приличную отдельную квартиру на первом этаже с окнами на Фонтанку. Хорошо помню последнюю встречу уже на новой квартире. Я сидел рядом с Афанасием Петровичем за столом, вокруг которого вели оживлённую беседу Олег Кузнецов, Саша Кулешов, Саша Гамзов, Ваня Краско, Кирилл Маргарянц. Афанасий Петрович тихо обратился ко мне, и его голос, на фоне вызванной встречей приподнятости, прозвучал особенно грустно: – Знаешь, Коля, я здесь как Дантес. Связав это имя с убийцей Пушкина, я удивлённо взглянул на него. – Как граф Монте-Кристо, когда он сидел в замке Ив, – уточнил Афанасий Петрович, – смотрю на воду в окно, а самостоятельно выйти из дома не могу. И так проходят годы. Позже я подумал, что не только тоска по свободе сближает нашего командира с этим литературным героем, а нечто гораздо большее, – благородство души, которым он, простой крестьянский сын, со щедростью истинного аристократа бескорыстно делился с нами, заботливо формируя искажённые трудным детством и суровым временем характеры своих воспитанников.
Алексей Исидорович Комиссаров
В непростом деле нашего воспитания не последнюю роль играл и капитан 3 ранга Комиссаров Алексей Исидорович – заместитель И.С. Щёголева по политической части. Вполне допускаю, что наименование этой должности, воспринимаемое нашим поколением естественно и привычно, через 15-20 лет потребует пояснения. Напомню в связи с этим, что нам выпало служить на флоте социалистической страны, где власть принадлежала коммунистической партии. Эта партия открыто и целенаправленно делала армию своим орудием, создавая во всех воинских частях свои организации и политические органы. Низовые должности этой стройной и весьма влиятельной партийной структуры, действовавшей параллельно с командирами на всех уровнях армейской иерархии, в разное время именовались комиссарами, политруками (сиречь – политическими руководителями), а в наше время – заместителями командиров по политической части, сокращённо – замполитами. Независимо от названия, задачи они решали практически одни и те же. Главными из них были – реализация решений партии в армейской среде, воспитание личного состава в духе коммунистической идеологии и руководство текущей работой имеемых в данном подразделении партийных и комсомольских организаций. Вот на этой «ниве» и трудился наш добрейший Алексей Исидорович. Среднего роста, спокойный, сдержанный, с простым круглым лицом и штатской розвальцей в походке, он, будучи внешне полной противоположностью своего эффектно-броского начальника, тем не менее, хорошо его дополнял. Из начальников на курсе Алексей Исидорович был старше всех по званию (во всяком случае, в первые годы) и по возрасту, а так же вторым – после И.С. Щёголева – по должности. И при этом по складу своего характера, выражавшемуся в мягкой, даже с проступающей иногда застенчивостью, манере держаться, несомненно, самым скромным. Подобное полное отсутствие начальнической амбициозности выглядело несколько необычным для офицера в его звании и возрасте, тем более – комиссара, чьё назначение, так сказать, «глаголом жечь сердца людей». Но именно такой облик комиссара-замполита, лишённый эффектности, с неизменной доброжелательностью во взгляде, негромкой, без напора речью, вызывал у нас расположение и доверие. Своё дело Алексей Исидорович выполнял добросовестно, спокойно, всегда оставаясь естественным и человечным, обходясь словами простыми и правдивыми. Такая выделяющаяся на общем фоне сдержанность восторгов в отношении «гениального вождя» или по поводу очередных «исторических решений» партии отнюдь не была следствием какой-то его особой принципиальной позиции. В своих коммунистических убеждениях Алексей Исидорович был, я думаю, потвёрже многих завзятых говорунов. Скорее всего, это было естественным проявлением его бесхитростного и цельного характера, органически чуждого неискренности и карьерным расчётам. Не понуждал он и нас демонстрировать свою «политическую подкованность». В результате «политический градус» на курсе не выходил за разумные пределы, а слова и дела Алексея Исидоровича – за рамки нашего доверия.
Ленинград, 1978 год. Отцы-командиры на праздновании 25-летия нашего выпуска из высшего училища. Слева направо: капитан 2 ранга Комиссаров А.И., капитан 1 ранга Щёголев И.С., капитан Попов С.П., капитан Моргунов А.П.
Мичман Иванов Борис Иванович
Вся бытовая сторона нашей жизни лежала на плечах старшины роты мичмана Иванова Бориса Ивановича. К нам он был назначен одновременно с А.П. Моргуновым. Старшина роты по своему положению – ближайший к курсантам представитель постоянного состава училища и, естественно, он проводил в роте с нами наибольшее количество времени. Неукоснительное выполнение распорядка дня, наряды на службу и работы, поддержание в достойном виде закреплённых помещений и территории, помывка личного состава в бане, сохранность (и по возможности приумножение) ротного имущества, курсантского обмундирования и тому подобное – всё это входило в компетенцию старшины роты и проводилось в жизнь с опорой на старшин переменного (то есть курсантского) состава. Подобного рода работа требует наличия у человека, помимо командирских качеств, ещё хорошо выраженной хозяйской жилки, расчётливости, своеобразной житейской гибкости. В армейской среде тогда считалось, что такой склад характера наиболее присущ выходцам из крестьянского сословия. Видимо, частично по этой причине с должностью ротного старшины ассоциировался тип не очень образованного и развитого, но дотошного, въедливого, с природной хитрецой служаки. Борис Иванович не соответствовал этому расхожему образу. Чуть выше среднего роста, подтянутый, с копной волнистых тёмных волос, смуглым продолговатым лицом, тонким своеобразной формы носом, слегка выступающей нижней челюстью, а, главное, несколько гнусавым, с «прононсом», голосом, он смахивал на француза. По характеру Борис Иванович был немногословен. Однако когда в необходимых случаях он обращался к строю, то в лаконичной и чёткой его речи явно проступал интеллект. Нередко в ней находилось место иронии, сарказму, а то и издёвке, яд которой, впрочем, разбавлялся корректной меткостью формулировок и потому не унижал. Многим запомнилась, например, фраза Бориса Ивановича в адрес досаждавшего ему неординарным поведением и каверзными вопросами курсанта по фамилии Пендюрин: – Когда мне хочется крепко выругаться, я говорю: Пендюрин! Надо признать, что, хотя в этом выражении и нет так называемых крепких слов, эмоции в нём выражены красноречиво и к тому же не без изящества. Особую неприязнь наш старшина роты питал к «аферистам». Так именовались у нас любители сбивать во время завтрака из своих порций масла и сахара нечто вроде крема. На нашем жаргоне это называлось «скрутить афёру». Заметив кого-нибудь шерудящего под столом ложкой в кружке – в неё, естественно, уже были заложены указанные компоненты, – Борис Иванович окликал «афериста», показывал ему два или три пальца и с характерным своим акцентом уточнял: – На воскрясенье! Это означало, что любитель «афёры» получал соответствующее количество нарядов вне очереди, и отбывать он их будет в выходные дни, лишившись тем самым ещё и увольнения. Подобные эпизоды проходили, как правило, в ровном, почти доброжелательном ключе и чаще всего не вызывали у наказанных обиды. Дело в том, что процесс «кручения» рождал с обеих сторон своеобразный «спортивный» азарт. «Афёра», безнаказанно изготовленная курсантом при наличии в столовой старшины роты, а последнему – поимка с поличным наиболее заядлых гурманов, доставляли каждому, в случае успеха, особое удовлетворение. Обладая натурой организованной и ответственной, Борис Иванович исполнял свою хлопотную работу добросовестно и надёжно, без излишнего шума и нервозности, никогда не опускаясь до мелочного желания «найти крайнего» в случае накладок, неизбежно возникающих время от времени в обширном ротном хозяйстве. Интеллектуальный подтекст, проступающий у него не только в речах, но и в стиле работы, вносил в наше казённое существование заметную облагораживающую ноту.
Здоровый моральный климат
Вот, пожалуй, основное, что спустя более полувека осталось в памяти о первых наших командирах. Разные по характеру, возрасту, жизненному опыту, служебному положению, все они работали не по-казённому, болея за дело и не считаясь со временем. Из сферы их внимания не ускользала и не оставалась без должной реакции любая сколько-нибудь настораживающая деталь курсантской жизни. Благодаря такому их отношению к работе, в нашем непростом казарменном укладе не возникало несправедливости, унижения слабых, корысти. Мы не ходили по струнке, хватало свободы и места для проявления молодого задора. Ну, а если что-то перехлёстывало через границы, наказание следовало по «заслугам» и без ущемлённого достоинства. Подобная здоровая нравственная атмосфера определяющим образом способствовала тому, что в ротном коллективе, а тем более в своём классе, мы постепенно стали ощущать себя вполне комфортно, почти как в семье. На этой основе в последующем возникали привязанность к училищу, гордость за него, а затем нечто ещё более глубокое, близкое к чувству родного дома, называемого нами с небрежной ласковостью – «Чудильник». Такие тёплые чувства к казённому заведению не возникают сами по себе. Это, несомненно, результат работы командно-педагогического коллектива училища. И трудно определить, чего офицерами и педагогами вложено больше, – педагогического мастерства или нравственного примера. Добавлю, что и в период учёбы в высшем училище наши ротные командиры нисколько не выбивались из этого стиля. Худощавый, миниатюрный капитан 3 ранга Мудров Борис Николаевич и сменивший его рассудительно-доброжелательный капитан Пороцкий Борис Симонович – высокий, чуть сутуловатый, с правильными слегка семитскими чертами умного лица, озарявшегося нередко лукавой юношеской улыбкой, – оба были достойными офицерами и порядочными людьми. Их доброе отношение к нам имело разные оттенки: у первого оно шло скорее от мягкой славянской души, у второго основывалось больше на трезвом расчёте, однако у обоих оно было одинаково искренним, неподдельным. Созданный нашими воспитателями моральный климат облагородил училищные стены едва ли не до уровня родных и сплотил курсантский коллектив узами в чём-то покрепче братских. Поэтому вполне естественно, что к своим воспитателям мы испытываем чувства почти сыновьи и храним о них благодарную память. В более широком плане всё вышесказанное можно свести в краткий, но очень важный итог. Начальникам нашим – от Министра ВМФ до старшины роты, каждому в своём качестве – удалось справиться со сложной государственного масштаба задачей: в экстремальных условиях военного времени и послевоенной разрухи взять под свою ответственность тысячи весьма проблемных, хлебнувших войны и безотцовщины подростков, и выковать из этого не очень податливого материала офицеров для Военно-Морского Флота. Отдача оказалась плодотворной как для страны, обретшей немало достойных граждан, так особенно для нового, послевоенного флота, в создании и становлении которого офицеры – бывшие подготы, внесли во многом решающий вклад.
Первые сдвиги
Возвращаюсь в «хмурую осень» 1946-го года. Постепенно, с большим трудом зарождались у меня ростки принятия училищной жизни. Нелёгкому этому процессу способствовали события, одно неожиданное и два ожидаемых с нетерпением, отразившихся существенно и благоприятно на нашем довольно-таки томительно-однообразном существовании. Первое из них касалось меня более чем кого-либо в нашем классе. В соответствии с принятым в училище порядком, в целях приобщения будущих офицеров к командирской практике, курсанты старшего курса назначались на младшие в качестве старшинского состава – помощников старшин рот и помощников командиров взводов. Надо отметить, что самих командиров взводов в штате училища не было. Под наблюдением кадрового состава старшекурсники на деле осуществляли повседневное руководство внутренней жизнью «своих» коллективов и пользовались соответствующими дисциплинарными правами. Старшины классов оставались, но они подчинялись «помкомвзводам» и заменяли последних на время их отсутствия (старшекурсники, естественно, на занятиях были в своих классах). «Помкомвзвод» нашего класса Николай Внуков – худощавый, выше среднего роста, несколько расхлябанный в движениях, на землисто-бледном лице холодный взгляд выпуклых серо-голубых глаз, – сразу и твёрдо взял в руки «бразды правления». С его появлением претензии даже самых упорных наших «сверхсрочников» на особое положение быстро угасли. В глазах третьекурсника Внукова и они, и мы – первогодки – по степени «салажности» почти не отличались. Обстановка в классе соответственно стала спокойнее. Большое облегчение почувствовал и я лично. Груз ответственности за класс, сильно давивший на мою психику из-за моральной неготовности, теперь в значительной степени лежал на плечах «помкомвзвода». Ослабло и нервное напряжение, владевшее мной с момента назначения старшиной класса, вызванное как стремлением самоутвердиться в этой роли, так и заметным недовольством некоторой части ребят, считавших, что я слишком рьяно взялся за дело. Я уже упоминал, что для этого некоторые основания у них определённо были. По неопытности я слишком буквально понимал известное требование Дисциплинарного устава о том, что приказ начальника должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. Сам я добросовестно пытался ему следовать, и ожидал того же от других в отношении себя. Поэтому зачастую я слишком резко и прямолинейно реагировал на возражения ребят или иные их попытки выразить несогласие с моими «командирскими» поползновениями. Отмечу, кстати, тот положительный факт, что ни я, ни мои оппоненты не пытались сделать детали этой взаимной «притирки» достоянием вышестоящего начальства, и это уберегло нас от возможной склоки. С приходом Внукова этот больной для меня вопрос как-то сам собой утратил свою остроту. Видимо, немалую роль сыграло то обстоятельство, что уж с ним-то какие-либо пререкания вообще не мыслились. Обладая неплохими командирскими задатками, наш «помкомвзвод» чувствовал себя в этой роли уверенно, решения принимал быстро, излагал их чётко и категорично, тоном, не допускающим возражений. Мне было чему у него поучиться. Однако, хотя Внуков успешно прокомандовал классом весь учебный год, особых симпатий у нас к нему не возникло. Коробили его обращение с нами слишком свысока и довольно нелепый гонор «большого начальника». Следующим благоприятным событием стало получение нами полного комплекта обмундирования. Нам выдали новые (на языке вещевиков – «первого срока») суконные форменку и брюки, хромовые ботинки, флотский ремень с бляхой, а также долгожданную ленту на бескозырку (её шуршание на затылке согревало в первые дни наши головы и души сильнее генеральской папахи). Шинель и шапка были «второго срока», то есть уже побывавшие в носке, но вполне добротные. Конечно, возможность, наконец, носить настоящую морскую форму была главным поводом для нашей радости. Но чтобы представить всю её глубину, напомню, в обстановке какой нищеты и дефицита, в части одежды особенно, мы её получили. На фоне «гардероба» большинства населения, включая, естественно, детей и подростков (а тогда практически всё, что входило в это понятие, было ещё довоенное, неоднократно перешитое и перелицованное), добротное сукно флотской формы воспринималось примерно так же, как сейчас, допустим, шикарный фирменный костюм в сравнении с обносками из «секонд-хенда». Мучивший меня годами вопрос «что одеть?», оказался, таким образом, разрешённым. Даже более кардинально, чем вопрос «что поесть?» (пока в училище кормили не досыта). Выдача обмундирования по времени совпала с косметическим ремонтом нашего кубрика, и на этот период его нам заменял коридор. Разложив на койке принесённую со склада форму, я с трепетом любовался полученным сокровищем. Вряд ли испытываемые мной тогда чувства будут понятны современным подросткам. Им, конечно, не приходилось до 15-ти лет «щеголять» сначала в холщовых, затем в хлопчатобумажных обносках, бить в деревне ноги летом – босиком, зимой – в хлябающих девчачьих опорках. В городе проблем с обувью не убавилось. Не от хорошей жизни приходилось мне периодически скреплять разваливающуюся обувь, где проволокой, где дратвой. Я был не в силах оторвать от формы глаз. Форменка, брюки, флотский ремень так красиво смотрелись в падающих из окна солнечных лучах, а блестящие чёрным хромом ботинки, казалось, излучают сияние. Вдруг за спиной раздался резкий неприятный голос помкомвзвода: – Лапцевич, дашь мне ботинки сходить в увольнение? – в его словах было больше утверждения, чем вопроса. Сердце моё упало. Меня охватило чувство подобное тому, какое, наверно, испытывал в давние времена крепостной, когда помещик требовал его молодую жену по праву первой ночи. Мне так хотелось самому показаться дома во всём блеске новой формы! А на чужих небрежных ногах мои ботинки наверняка потеряют свою первозданную прелесть! Но и отказать было невозможно. Я обернулся к Внукову, и он, прочтя на моём лице охватившие меня чувства, сказал с брезгливым презрением: – Ну и живуче же сидит в тебе гражданское жлобство! На этот аргумент мне нечего было возразить. Следует, пожалуй, добавить, что в моих ботинках Внуков побывал в увольнении только один раз и вернул их в полном порядке. Наконец, самое важное событие: дождались права на увольнение в город и мы. Для меня оно состоялось вечером 7-го ноября (с 6-го на 7-е я был в наряде). Думаю, не стоит тратить слов на описание того, с каким чувством ехал я домой после трёхмесячного отсутствия, и как меня встретили мама и сестра Лина, когда я во всём блеске военно-морской формы появился в родных стенах.
Ленинград, 1946 год. Появившись дома в первое увольнение, я произвёл сильное впечатление на родных
Детали этой встречи почти не сохранились в моей памяти – сильные положительные эмоции, видимо, их захлестнули. Не могу даже вспомнить, один или два дня провёл я дома тогда. Увольнение пролетело, как мгновение. С этого дня училищная жизнь и у нас обрела свой чёткий недельный ритм. В конце недели каждый мог рассчитывать на более или менее продолжительную смену обстановки, при этом, как правило, приятную. Увольнение, кроме того, помогло нам сохранить и укрепить чувство самоуважения, подвергавшееся в училище нередко нелёгким испытаниям. Ведь даже полностью обмундированные и с ленточками на бескозырках мы по-прежнему оставались самыми младшими – «салагами». А в городе этой «тонкости» можно было не ощущать. Не говоря уже о семейном круге, где мы были в центре внимания родителей, родственников и знакомых. Уважение к профессии моряка, интерес «гражданских» к морской форме, наша собственная гордость тем и другим (хотя многие из нас уже начинали подумывать, как бы выданное обмундирование поскорее «дотянуть» до настоящего «морского шика»), существенно поднимали нам тонус, заманчиво расцвечивали смысл и перспективу сделанного выбора. С разбивкой на недели днями увольнений училищное время потекло значительно резвее. Подошёл Новый, 1947-ой год, а с ним и каникулы. Целых десять дней привольной домашней жизни, без подъёмов и отбоев, в своём привычном и родном гнезде.
Зимние какникулы
Упомяну, кстати, что в 1942-м году, когда нашу соседку Анну Николаевну невестка увезла в Лисий Нос, мама приобрела у них солидных размеров раздвижной стол, комод и большое в резной деревянной раме настенное зеркало. Думаю, что в то лихолетье цена на мебель была скорее символической. Всё купленное было, конечно, далеко не новым, но внушительным, под красное дерево и существенно украсило нашу комнату, придало ей более «городской» вид. Теперь, оставшись вдвоём, мама и Лина поддерживали в ней образцовый порядок. А вторая комната, доставшаяся нам после смерти в блокаду Марии Фёдоровны, постоянно сдавалась мамой внаём и ещё как-то не воспринималась полностью нашей. Её сдавали чаще всего офицерам – слушателям недалеко от нас расположенных академий – Военно-Медицинской и Артиллерийской. Плата за комнату (в среднем рублей 150), мамина зарплата уборщицы в общежитии партийной школы на Литейном (что-нибудь рублей 450), да пособие Лине за папу – мне его выплачивать перестали после зачисления в училище – (рублей 80) – вот и весь бюджет нашей семьи в то время. Троих бы, конечно, такой бюджет «не вынес», даже двое были для него ношей почти запредельной. И концы с концами сводились, лишь благодаря крайней бережливости мамы. В этой ситуации тяжелее всех морально приходилось, наверно, Лине. Она уже училась в 10-м классе, и не стоит пояснять, как безумно хочется в этом возрасте одеться покрасивее, а, главное, помоднее. Хорошо, что природа наградила её упорным характером: из школы она по-прежнему приносила только пятёрки, а проблему одежды пыталась решать за счёт изобретательности и аккуратности. Что-то она приспосабливала из оставшегося от старшей сестры Лёли, да Федя время от времени присылал ей трикотаж из Прибалтики. Истребительный полк, в котором он служил на сверхсрочной, располагался под Ригой, в небольшом городке Цесисе. Мама моим каникулам радовалась, похоже, не меньше меня. Её лицо, обычно невесёлое, даже хмурое, в эти дни как-то светлело, и его нередко освещала довольная улыбка. Теперь я понимаю, что мой уход в училище дался маме ничуть не легче, чем мне. Её радость выражалась не словами, а преимущественно в стремлении кормить меня обильнее и вкуснее. В этом, надо сказать, ей здорово помог полученный по выданному нам в училище продаттестату десятидневный «сухой паёк» – неожиданно весомый и разнообразный. Из школьных друзей у меня состоялось несколько встреч только с верным Васей Петровым. Он первый и запечатлел меня на фото в морской форме.
Ленинград, 1947 год. Вася Петров – мой неизменный друг со школьных времён
С ребятами из соседнего дома связь постепенно угасала, что, в общем, для нашего возраста, когда основой дружбы преимущественно является совместная учёба, вполне закономерно. Впрочем, приятельские отношения между нами сохранялись ещё долго. Но всё хорошее имеет обыкновение заканчиваться, и гораздо быстрее, чем плохое. Вечером 10-го января надо было возвращаться в училище, а 9-го мне исполнялось шестнадцать. Подобные события у нас в семье специально не отмечались, так что вечером этого дня у меня было время задуматься о прожитых годах. В училище идти страшно не хотелось, и раздумья мои были весьма горькими. Их итоги я изложил в довольно пространном стихотворении, из которого в памяти сохранилась одна (но ключевая!) строфа:
«Как мало прожито, как много пережито», Семён Надсон, объятый грустью, написал. Да, жизнь моя, как и его, в куски разбита. Я эту истину давно себе сказал.
Как-то блокнот с моими стихами попал в руки Феде, и эта строфа довольно долго служила объектом его шуток и подначек. Особенно он изощрялся относительно «кусков», на которые, как я сетовал, разбилась моя короткая, но пропащая жизнь. Чувствуя, что с этим поэтическим образом вышел явный перебор, я не обижался. После каникул училищная жизнь сразу ввела нас в деловую, уже почти привычную, колею. Учёба, самоподготовка, наряды, приборки. На этом однообразном фоне – светлые проблески, именуемые на казённом языке «приёмом пищи», на курсантском – «рубоном». По средам, после занятий – баня, в субботу вечером, если нет «грехов», дежурства, карантина или ещё чего-нибудь подобного – увольнение до 22-х воскресенья.
Идеологическое воспитание
Раз в неделю – до или после занятий – политинформация «на злобу дня». Проводили её, как правило, коммунисты (для всей роты одновременно), иногда – комсомольцы, для своего класса. Раз в месяц – классные и ротные комсомольские собрания. На них мы не без натуги обсуждали состояние наших дел «в свете последних постановлений» и выявляли «резервы», дабы ответить ещё большими успехами «на заботу партии и её великого вождя». Периодически – внеплановые «стихийные» митинги, на которых ораторы, предварительно отобранные замполитом, в зависимости от темы, «давали суровую отповедь коварным проискам оголтелых империалистов» и (или) «выражали горячее одобрение и поддержку мудрым решениям» – понятно, чьим. Перед каждым официальным праздником – «Торжественные собрания» всего личного состава училища в клубе. На них докладчики в наукообразной, но не становящейся от этого менее приторной, форме в очередной раз доказывали выдающуюся роль гения человечества: и в событии, по поводу которого установлен праздник, и в создании первого в мире социалистического государства, и в осчастливливании всего, стонущего под игом капиталистов, мирового пролетариата. Каждое упоминание в ходе собрания великого имени непременно приветствовалось стоя бурными аплодисментами. На перечисленные выше и другие подобного рода идеологические мероприятия времени не жалели. Согласно партийным установкам они рассматривались в качестве одной из главных составляющих процесса воспитания «нового человека». Мы над этой стороной нашей жизни особенно не задумывались, воспринимая её как неизбежную и привычную часть общественного уклада, свойственного социалистической стране. А то, что социалистический строй со всеми его атрибутами, даже не всегда соответствующими классическим постулатам марксизма (например, о роли «героев» и масс в историческом процессе), несравнимо «передовее» капиталистического, нам к этому времени было уже совершенно ясно. Именно в силу этого убеждения, а не вследствие появления каких-то признаков критического отношения к существующей системе, безудержное восхваление вождя и восторги по поводу выпавшего нам счастья строить под его мудрым руководством коммунизм, постепенно стали вызывать у меня (о других сказать не могу, поскольку мнениями на эту тему мы не обменивались) недоумение, смешанное с досадой: ну зачем с таким упорством и настойчивостью надо всем ломиться в открытую дверь?
Несколько эпизодов из училищных будней
Помимо уроков танцев, о популярности которых я уже писал, особый интерес вызывала у нас и военно-морская подготовка. Всё, что мы на ней изучали, так и дышало морской романтикой. Шлюпочное дело, такелажное дело, сигнальные флаги, азбука Морзе, флажный семафор и многое другое, раньше так поражавшие наше воображение на страницах приключенческих книг и экранах кинотеатров, благодаря ВМП входили в нашу жизнь и скрашивали её обыденность. Отмечу попутно превосходную книгу «Шлюпочное дело», написанную начальником нашего училища Н.Ю. Авраамовым. Мы с охотой осваивали «морзянку», вязали замысловатые морские узлы, семафорили, заучивали значения флагов и многочисленных морских терминов, увлечённо подчиняясь таинственному магнетизму, необъяснимо присущему всему, что связано с морем. Но, естественно, и здесь находилось место многочисленным шуткам и проказам. Чаще всего объектами для озорства, не всегда безобидного, служили мы сами. Это было в порядке вещей, и никто из курсантов от всякого рода «покупок», «подначек» и иных каверз застрахован не был.
«Шхимушгар»
Но иногда «доставали» и преподавателей. Как правило, тех, кто вызывал у нас по каким-то причинам антипатию, или имел несчастье быть слишком мягким, или у кого просто недоставало умения вовремя пресечь нежелательное развитие событий. Слабым звеном в этом смысле оказался преподаватель предмета, примыкающего к ВМП, под названием «мастерские». В программу предмета входило такелажное и слесарное дело. Нас учили вязать морские узлы, выполнять сращивание и заделку тросов, плести маты, работать со слесарным инструментом, изготавливать из металла простейшие детали. Хотя по негласному «рейтингу» среди учебных предметов, «мастерские» занимали место в самом хвосте, такелажным делом с его сугубо морской спецификой мы занимались с охотой. Преподавал этот предмет подполковник административной службы (а/с) Бобко. Звания с приставкой «а/с» присваивались выпускникам интендантских училищ, а также в некоторых случаях вообще не окончившим военные училища. Эти офицеры носили погоны почти вдвое уже обычных с серебристым галуном и малиновым просветом. Серебристыми были и пуговицы на кителе и шинели. Поэтому в наших глазах это были не совсем офицеры. Хотя, напомню, преподававший нам математику Платонов Я.П. был майором а/с. Однако это нисколько не отражалось на его авторитете офицера и преподавателя, поскольку соответствие Якова Платоновича тому и другому было очевидным по всем параметрам. К сожалению, подполковник а/с Бобко производил на нас иное впечатление. Звание и солидный возраст свидетельствовали, что офицером он стал отнюдь не вчера, однако его речь, повадки, да, пожалуй, и кругозор по нашему представлению совсем не соответствовали этому уровню. Скорее всего, призванный из глухой деревни на флот, он с крестьянским рвением отслужил срочную, остался служить дальше, был образцовым старшиной, и в одну из кадровых компаний оказался произведённым в красные командиры (как известно, командиров вновь стали называть офицерами только в1943-м году). Добросовестный и дотошный служака, он постепенно рос в звании, но оставался в общем развитии практически на прежнем уровне. Не смог даже избавиться от странноватого, явно захолустного акцента. Обучая нас узлам, он говорил: «завяжитя» и «развяжитя», а в его повадках нередко так и проскальзывали крестьянская подозрительность, мелочность и суетливость. Конечно, для взрослого человека не составляло особого труда дать сбалансированную оценку деловым и человеческим качествам подполковника Бобко, позитивная основа которых безусловно перевешивала второстепенный «негатив». Однако не секрет, что именно последнее прежде всего привлекает внимание подростков, тем более, в преподавателях. Однажды, придя на занятия на смену уже отзанимавшемуся 131 классу, мы нашли Бобко в сильном возбуждении. Он метался по всему помещению, заглядывал в столы, под скамейки и собирал «концы» – небольшие, метра по полтора куски так называемого шхимушгара, нарезаемые из прядей расплетённого списанного по износу смолёного троса. Для уяснения дальнейшего отмечу, что шхимушгар использовался как расходный материал, чаще всего для плетения морских матов, и специально отчитываться за его расход не требовалось. Куски шхимушгара – концы – выдавались нам в начале урока для вязания узлов. Собрав все концы в аккуратную горку и пересчитав, Бобко с отчаянием, уместным для выражения внезапной и тяжёлой утраты, воскликнул: – 131-й класс меня обокрал!!! Из последовавших затем горестных причитаний стало ясно, что он недосчитался нескольких концов. Столь эмоциональная реакция из-за такой мелочи нас изумила: её можно было ожидать, допустим, от Плюшкина или, в крайнем случае, от какого-нибудь сквалыги-старшины, но никак не от подполковника. В последующем Бобко обязательно собирал и пересчитывал концы перед нашим уходом. Ко всему прочему подполковник зачем-то зашифровывал выставляемые нам оценки условными знаками, а занося их в свою книжку, ещё и прикрывал эти обозначения рукой. Естественно, подобные «странности» не добавляли Бобко авторитета, что отразилось как в его прозвище – «Шхимушгар», так и, мягко выражаясь, в не совсем корректных по отношению к нему выходках. В памяти остался эпизод, когда он целый урок проходил с прикреплённым сзади к кителю хвостом из «одноимённого» материала. При нас только однажды дотошливость и въедливость Бобко принесла неожиданнный эффект. Правда, для этого потребовались уникальные наивность и прямодушие Коли Кузовникова. Произошло это при следующих обстоятельствах. В конце такелажного дела нам требовалось сдать по узлам нечто вроде зачёта. Как правило, опросить всех на уроках времени не хватало и оставшиеся, а так же те, кого ранее постигла неудача, могли подходить к Бобко во внеурочное время. Излишне говорить, что «Шхимушгар» вёл тщательнейший учёт. При этом, у каждого пришедшего спрашивал не только фамилию, но и, с невинным видом, как бы невзначай: – За кого будете сдавать? На что курсант с недоумением отвечал: – За себя, конечно. Наши «любители лёгкой жизни» быстро учуяли лазейку, и сдача за них зачёта более подготовленными ребятами стало делом почти обычным. А на шитую белыми нитками уловку Шхимушгара, естественно, никто не поддавался. Падкий на подобные авантюры Саша Гамзов, скорее из спортивного интереса, чем по необходимости, попросил сдать за него узлы уже получившего зачёт Колю Кузовникова. Когда Коля со смятением в душе от необходимости прилюдно врать предстал в числе других перед Бобко, то на его вопрос: – Как ваша фамилия? Коля неожиданно для самого себя, о чём свидетельствовали некоторая запинка и неуверенность тона, ответил: – Кузовников. – А за кого будете сдавать? Бедняга, видно, совсем растерялся (ведь у Кузовникова-то уже зачёт есть!) и ещё более неуверенно протянул: – За Гамзова…(?!). Легко представить дружный хохот окружающих, торжество «Шхимушгара» и последующую реакцию Саши.
«Анафема»
Историю преподавал нам уже упомянутый ранее Морозов (его полного имени в «анналах» училища не сохранилось), среднего роста щуплый мужчина около сорока лет. По своему складу характера он относился к тем людям, к счастью, достаточно редким, чья органическая неспособность постоять за себя и покорная готовность принять вину за любую неприятность, делают несносной не только собственную жизнь, но вносят дискомфорт и в самочувствие окружающих, вынужденных слишком часто сопереживать их житейской беспомощности. Его лицо с некрупными чертами, круглым лбом под негустыми завитками тёмно-русых волос постоянно сохраняло виновато-услужливое выражение, особенно проступавшее в тех нечастых случаях, когда он пытался кому-нибудь возразить. Внутренняя скованность Морозова нередко выражалась в его чисто физической неловкости. То, войдя в класс, он останавливается для обмена приветствиями с нами слишком близко к трубе, идущей с потолка между дверью и учительским столом (о ней уже упоминалось), и затем развернувшись, чтобы идти к столу, стукается о трубу лбом. То появляется в классе со странно белеющей ширинкой, и при более внимательном рассмотрении оказывается, что только одна её половинка принадлежит брюкам, а другая пристёгнута от кальсон. В общем, для тех ребят, кто относился к учителю прежде всего как к источнику своих неприятностей, наш историк был самой лёгкой добычей. Однажды и все мы, распоясавшись от безнаказанности, без всякого повода зло его обидели. Когда Морозов пришёл на урок, то в ответ на его приветствие: – Здравствуйте, товарищи курсанты! Мы, вместо ответа «Здравия желаем, товарищ преподаватель», дружно прокричали: – Ана – а – а – фема! Лицо Морозова исказила гримаса испуга, удивления, потом он криво улыбнулся, обращая наш беспрецедентно наглый для училища поступок в шутку. Конечно, у него не хватило характера дать этому случаю огласку и добиться для нас вполне заслуженного наказания. В силу отмеченных особенностей натуры практически каждый урок, особенно опрос, был для Морозова нелёгким испытанием. Скорее всего, именно по этой причине он часто практиковал вместо устного опроса нечто вроде письменных контрольных. В ходе её каждой колонке в классе назначался один-два вопроса по пройденной теме, на которые мы в течение 15-30-ти минут писали свои ответы. При этом можно было довольно свободно воспользоваться учебником. Морозов на это смотрел сквозь пальцы. Естественно, многие не упускали эту возможность и предвкушали для себя хорошие оценки. Однако после первой же контрольной большинство из них испытали горькое разочарование. Ответы, с таким старанием позаимствованные из учебника, оказались оценёнными всего лишь на тройку. Их чувства выразил, конечно, Миша Рождественский. Кипя благородным негодованием, он обратился к Морозову: – Товарищ преподаватель, за что тройка? Ведь у меня всё, как в учебнике! Ответ прозвучал неожиданно твёрдо и убедительно: – Понятно, что вы пользовались учебником, но хотя бы потрудились изложить материал своими словами, а не списывали один к одному. И всех хочу предупредить: чем ближе к тексту учебника будет ответ, тем соответственно ниже оценка. На это даже Миша не нашёлся, что возразить.
Экзамены
Подошло время весенних экзаменов, первых в Подготии. В те времена за 8-й класс их было не меньше полудюжины. Поэтому желание облегчить себе по возможности этот процесс было естественным и общим. Особенно остро стоял вопрос с экзаменом по истории: и по причине обилия материала, и главное – из-за весьма облегчённого отношения к этому предмету большинства ребят в течение учебного года. Когда мы ознакомились с билетами, нашим «корифеям исторических наук» стало ясно, что втиснуть в обычную шпаргалку материал, достаточный хотя бы для минимально приемлемого ответа невозможно. Требовалось что-то нетрадиционное. И наши «лучшие умы» нашли решение. Их схема органично соединяла возможности уже сплотившегося коллектива с особенностями предстоящего экзамена. При чёткой организации процесса сдачи, она почти со стопроцентной вероятностью обеспечивала доставку готового ответа точно в нужное время и в нужное место. Об этом “know how” стоит рассказать подробнее. Начали с того, что на стандартных листах, аналогичных тем, которые давали экзаменующимся вместе с билетом для подготовки, мелким, но разборчивым почерком изложили ответы. На каждый билет отвели отдельный лист. Нужное количество проштампованных листов обеспечивал Серёжа Плаксин, имевший в «соответствующих сферах» знакомую девушку. Второй этап осуществлялся накануне экзамена. Историю мы сдавали в своём классном помещении, соответственно сами его и готовили. Помыли окна, натёрли мастикой и надраили пол, протёрли отовсюду пыль и так далее, но главное звено подготовки заключалось в расстановке мебели. Классное помещение я уже описывал, поэтому «диспозицию» можно изложить коротко. Стол для экзаменаторов поставили вдоль правого (смотря от входа) окна. Таким образом, экзаменаторы сидели лицом к двери. Столы для получивших билеты расставили почти посредине помещения параллельно классной доске. Сидевшие за столами были обращены к ней (и к экзаменаторам) лицом. Всё пространство за их спинами почти до левой стены было заставлено плотно сдвинутыми столами. Между массивом столов и левой стенкой был оставлен узкий промежуток, в котором могли разместиться в начале экзамена вплотную друг к другу – весь класс, а потом, после вызова первых трёх – трое очередных. Массив столов выглядел внушительно и выполнял две функции: во-первых, при взгляде на него у экзаменаторов возникала полная уверенность, что через такую преграду невозможно подсказать или передать шпаргалку сидящим за столом с билетами. Во-вторых, именно под этими столами протягивались к каждому месту подготовки бечёвочные передачи, посредством которых можно было доставлять заготовленные листы с ответами любому пожелавшему помощи. Эту операцию проделывали сидевшие у стенки очередники после того, как вызванный, взяв билет и чётко огласив его номер, садился на место подготовки и начинал задумчиво почёсывать в затылке. Спустя некоторое время, он, опустив руку как бы за носовым платком, мог свободно снять закреплённый скрепкой на бечёвке доставленный ему лист с ответом. Эти манипуляции были отработаны тренировками накануне экзамена. Кому помощь не требовалась, тот оставлял свой затылок в покое. Экзамен прошёл без сучка и задоринки. Трудно сказать, кто ликовал больше, – Морозов или наши «корифеи». Этот опыт был с успехом использован и в некоторых других классах, что, конечно, несколько улучшило общую картину с успеваемостью по истории. Тем не менее, в следующем году у нас был уже другой историк. Экзамены по остальным предметам проходили по традиционной схеме. Каждый индивидуально решал для себя вопрос, в какой части ему полагаться на свой запас знаний, а где подкреплять его шпаргалками («шпорами»). Естественно, и в этом случае имели место подсказки, передача «шпор» и другие виды взаимовыручки в зависимости от ситуации и возможностей. Насколько мне помнится, все экзамены в нашем классе прошли без двоек, хотя, если честно, вряд ли это соответствовало фактическому уровню знаний у всех ребят.
Практика
Первая наша практика проходила на южном берегу Финского залива в районе фортов Серая Лошадь и Красная Горка. В своё время форты были широко известны, однако после того, как их личный состав в 1921-м году поддержал Кронштадский мятеж, эти названия упоминались очень редко, и с историей фортов, в которой было немало славных страниц, нас не знакомили. К месту практики мы добирались морским путём на учебной шхуне «Учёба». Первое плавание доставило нам много впечатлений. На шхуне все употребляемые в училище морские термины типа «трап», «палуба», «камбуз», «кубрик», «койка» и другие, звучавшие для берегового здания с натяжкой и даже претенциозно, обрели, наконец, своё настоящее значение. Многое из того, что ранее было знакомо из книг и существовало лишь в воображении, предстало нам в реальном виде и поразило не только своеобразием, но так же выверенной веками простотой и рациональностью. Герои любимых книг Станюковича, Жюля Верна, Стивенсона, Джека Лондона о приключениях на море становились для нас понятнее и ближе.
Финский залив, лето 1947 года. Учебная шхуна «Учёба» – наш первый корабль, на котором мы становились моряками
Осталась в памяти беседа на баке шхуны, которую провёл во время движения по морскому каналу располагающий к себе капитан 2 ранга. Правда, запомнилось не столько содержание беседы, сколько исходящий от трубки офицера невыразимо приятный тёплый аромат «Капитанского» табака. Этот аромат, гармонично соединяясь в восприятии с антуражем парусника, плеском воды за бортом, лёгким покачиванием палубы, ещё более усиливал романтический настрой, навеваемый первым нашим соприкосновением с морем. Погода в течение всего перехода была хорошей, и мы неохотно расстались со шхуной, сожалея, что плавание оказалось столь непродолжительным. На берегу нас разместили в очень обширном помещении. Сейчас не могу точно сказать, было ли оно чем-то вроде сенного амбара или большой армейской палаткой. Внутри нас ожидали сколоченные из жердей нары, покрытый травой пол и, разумеется, полчища комаров. Подобный спартанский быт, надо сказать, вряд ли кого из нас покоробил или хотя бы удивил. О чём-то другом, более комфортном, у нас и мыслей не возникало. Вообще, понятие «комфорт», если и было тогда в нашем лексиконе, то ассоциировалось оно, по-моему, скорее с апартаментами знати или будуарами кокоток, но никоим образом не как необходимый элемент нашего собственного существования. То, что досаждало нам сильнее всего, находилось внутри нас. Нетрудно догадаться, что это был зверский аппетит, усиленный, помимо возраста, свежим морским воздухом и физическими нагрузками. И хотя в столовой сметалось всё подчистую, положенные нормы позволяли нам, что называется, лишь «заморить червячка». Дополнить как-то свой рацион возможности не было никакой. Форты располагались в закрытой малозаселённой зоне, в ней отсутствовали посёлки и магазины. Да и наличие магазинов вряд ли могло улучшить положение: редко у кого из нас водились деньги, к тому же, напомню, в стране ещё была карточная система. Однако притерпеться к нехватке еды у нас и раньше возможностей было предостаточно, а чувство постоянного голода было всё же не настолько сильным, чтобы заслонить от нас остальную жизнь. Практика в целом проходила интересно. Берег Финского залива с чудесным песчаным пляжем был совсем рядом. Он и служил ареной нашего первичного оморячивания, главное содержание которого состояло в освоении шлюпки – «шестёрки». Оба последних слова, имеющие оттенки: первое – ласково-уменьшительный, а второе – даже слегка уничижительный, вообще не очень подходят к внушительному добротному и, как мы сразу имели возможность ощутить, весьма увесистому плавсредству, официально именуемому «шестивесельным ялом». Его конструкция и снаряжение, рассчитанное на не слабых мужчин, были явно тяжёлыми для мальчишеских рук. Из-за отсутствия причала шлюпки к тому же хранились на берегу, и нам стоило немалых усилий перед занятиями по-муравьиному стащить их по песчаному пляжу в воду, а после занятий затащить на берег. Не по нашим рукам были и вальковые вёсла – длиной и толщиной в хорошую оглоблю. Оказалось, кроме того, что гребля сама по себе это не только немалые, а порой предельные физические усилия, но и довольно сложная техника гребка, и жёсткие требования по соблюдению гребцами единого ритма. Стоит хотя бы одному из гребцов замешкаться, поймать, к примеру, «блин» лопастью весла из-за несвоевременного его разворота, и сбой общей гребли неизбежен. Гребцы начинают невольно бить вальками по спинам впередисидящих, а командир в ярости поминать всуе царя небесного и всех его апостолов. В общем, освоение гребли, как никакой другой элемент оморячивания, далось нам и потом, и весьма болезненными поначалу мозолями. Но когда, недели через полторы-две, мозоли на руках затвердели, мышцы утратили дряблость, сбои при гребле стали редкостью, занятия шлюпкой стали нам приносить немалое удовольствие. А с переходом к освоению паруса, хождение под которым требует от экипажа не меньшей слаженности и ещё большей быстроты реакции, но гораздо легче физически, мы нередко испытывали ощущения, близкие к мальчишескому восторгу. До сих пор сохранились в моей памяти голубая белизна моря и неба, сияние летнего солнца, поскрипывание рангоута, игра передней шкаторины туго наполненного ветром паруса, шуршание о днище и плеск воды за бортом, наслаждение от движения надёжной, послушной, но бескомпромиссной к любой небрежности шлюпки! Мне кажется, трудно придумать занятие для подростка более необходимое, полезное и к тому же настолько для него интересное и притягательное. В моём детстве и отрочестве было не так уж много событий, которые можно было бы пожелать пережить моим сверстникам. В отношении занятий шлюпкой, парусом это можно сделать с чистой совестью. Увлекательный процесс познания нового, нелегкий физический труд в сплочённом общей целью коллективе ровесников, единение со стихией воды, солнца, ветра, пронизанные к тому же свойственной этому возрасту романтикой, исключительно благотворно и ко времени воздействуют на душу и тело подростка, дают ему крепкую моральную и физическую закалку. Именно во время этих занятий окончательно покинула нас детская инфантильность и получили мощный толчок для дальнейшего развития задатки настоящего мужского характера. Кроме шлюпок, в другую половину учебного дня проводились занятия по сигнальному делу, плаванию и английскому языку. Во время сигнального дела мы осваивали главным образом переговоры с помощью флажного семафора и с использованием шлюпочной сигнальной книги. В последнем случае соответствующий набор флагов расцвечивания поднимался на сигнальной мачте. Преподавал сигнальное дело капитан-лейтенант Смоляков – худощавый цыганистого вида офицер. Во время войны он получил тяжёлое ранение, в результате которого потерял ногу, и была очень сильно покалечена рука. Передвигался Смоляков на протезе при помощи трости с заметным напряжением, и эта физическая скованность, похоже, ещё больше возбуждала его южный темперамент. Он очень остро реагировал на наши огрехи, а когда кто-нибудь из нас, выполняя функции старшины сигнальщиков, для смены поднятого на мачте сигнала командовал: – Сигнал спустить! – то приходил буквально в неистовство: – Спустить! Пехота! Так и наспускаешь полные штаны! Заруби себе на носу, надо командовать: «Сигнал ДОЛОЙ!». Бурная реакция преподавателя, конечно, не могла не задевать наше самолюбие. Однако чувств обиды или антипатии, вполне возможных при столь бесцеремонных выражениях, к Смолякову не возникало. Мы уважали его боевые увечья, а наши души уже созрели настолько, что люди, несущие этот тяжёлый крест, вызывали глубокое сочувствие. Если сигнальное дело и особенно шлюпки ассоциируются в моей памяти с ясным теплом солнечного дня, то занятия плаванием, напротив, с хмурой холодной неприветливой погодой. Причина, возможно, в том, что плавание проходило на водоёме, располагавшемся среди густого высокого леса. Солнце туда проникало редко, и вода едва ли прогревалась выше 15-ти градусов. Меж тем проводивший занятия мичман был беспощаден и загонял в воду всех, невзирая на вопли якобы больных или на самом деле не умеющих плавать. Холодная вода хорошо стимулировала двигательную активность, и довольно скоро мы все овладели азами плавания на боку, брассом и даже кролем. Тем не менее, такое плавание мне не очень полюбилось. Слишком негостеприимно нас встречали, и неуютно чувствовали мы себя во время занятий. Долгое время спустя, при воспоминании о них, в моём теле ощущался озноб и выступала гусиная кожа. Не припомню, кстати, чтобы в период практики кто-то из ребят заболел. Да и в течение учебного года болезни были редким явлением. Мне сейчас кажется, что наше поколение вообще удалось на редкость жизнестойким и здоровым. Касаясь занятий английским, отмечу только, что наша первая практика была и единственной, на которой такие занятия предусматривались учебным планом. Возможности для совершенствования курсантами разговорной речи, особенно во время пребывания на кораблях, с учётом будущей профессиональной специфики, в последующем почему-то упускались. Вместо этого получались трёхмесячные перерывы (июнь – август), урон от которых при овладении языком несомненен. В одно из воскресений небольшой группой из нашего класса мы побывали на форту Серая Лошадь. Остались в памяти весьма неблизкий путь по поросшей лесом холмистой местности и странноватая картина вдруг возникшего открытого безлюдного пространства с простирающимся вдоль береговой черты довольно высоким, покрытым густой травой, земляным валом. На его плоской вершине рассредоточенно располагались несколько орудий крупного калибра. Эта картина меня слегка разочаровала: при слове «форт» в моём воображении возникали мощные крепостные стены, орудийные башни, бойницы и другие внушающие почтение элементы. Стоявшие на поворотных основаниях посредине забетонированных орудийных двориков стальные махины, защищённые с трёх сторон и сверху массивными коробчатыми щитами, тоже впечатляли, однако полное отсутствие в поле зрения каких-либо строений, дорожек, даже тропинок создавало ощущение необитаемости и заброшенности. Это тягостное, с примесью личной вины, чувство, знакомое каждому, кто попадал в опустевшие места с сиротливыми руинами когда-то кипевшей жизни, возникло у меня впервые. Помню в войну, лазая по безлюдным разбомблённым домам, подобных эмоций я не испытывал.
Форт Серая Лошадь, лето 1947 года. Наша рота на практике после окончания первого курса ЛВМПУ
В целом же о первой практике могу сказать, что, несмотря на суровые бытовые условия, она прошла и напряжённо, и интересно. Непосредственное знакомство с морем, пусть пока и в самом облегчённом варианте – с берега, дало понятие о ждущих нас трудностях, развеяло несколько романтический флёр, но отнюдь не разочаровало. Думаю, большинство ребят, возвращаясь в Ленинград на борту уже знакомой «Учёбы», испытывали удовлетворение, которое обычно посещает человека, успешно проделавшего нелёгкую, но полезную работу. Первый курс Подготии, изменивший нашу жизнь резко и навсегда, принёсший нам много новых и нелёгких испытаний, преодолён достойно. Мы уже не «албанцы», не первогодки, мы – второкурсники.
ЛВМПУ, 1947 год. Сразу видно, что я уже хорошо «оморячился»
Нас ждёт заслуженный отпуск. Его близость будила воображение, расцвечивала будущее заманчивой дымкой, в которой проглядывался, теряясь вдали неясным пунктиром, ещё неизвестный нам курс всей нашей жизни.
Ленинград, июль 1949 года. Мы закончили ЛВМПУ, стали курсантами 1-го Балтийского ВВМУ и получаем палаши. Я докладываю начальнику училища контр-адмиралу Никитину Б.В.
Санкт-Петербург
2007 год |