



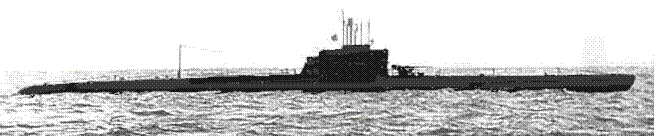
© Клубков Ю. М. 1997 год
|
|
  |
 |
|
|
© Клубков Ю. М. 1997 год |
|||
|
Боря Усыскин был человеком с обширными и разносторонними интересами. Больше всего он увлекался искусством, постоянно изучал его, посещая музеи, картинные галереи и выставки. Особенно интересовался живописью и хорошо знал её от эпохи Возрождения до наших дней. Боря собрал хорошую библиотеку по изобразительному искусству, которой постоянно пользовался. Он сам начинал писать картины, и у него получалось, судя по нескольким картинам и эскизам. Его также очень увлекала музыка. Он любил посещать музыкальные театры и филармонию, хорошо разбирался в классических произведениях великих композиторов, знал исполнительские манеры знаменитых музыкантов. Боря глубоко изучал литературу, историю и языки. По природе своей он был склонен к гуманитарным наукам, а не к техническим. Волей судьбы Боря стал морским офицером, специалистом по военно-морской радиоэлектронике. Он честно тянул служебную лямку, но жизнь показала, что это была не его стезя. Служба на крейсере «Железняков» Северного флота была для него тяжёлой и тяготила его. Боря принимал участие в испытаниях ядерного оружия на Новой Земле. Потом занимался дезактивацией своего заведования на крейсере. Однако, позднее выяснилось, что крейсер «Железняков» не числился в списках кораблей, принимавших участие в испытаниях. Дальнейшая служба в военной приёмке на заводе его тоже не удовлетворяла. В условиях постоянного напряжения и стресса было не до искусства. Боря выслужил предписанный срок и получил расстройство здоровья. В последние годы жизни чувствовал себя неважно, и должен был постоянно лечиться. Он начал писать воспоминания, но успел изложить только несколько небольших рассказов, помещённых на следующих страницах. Вдова Фаина Филипповна, сын Лев Борисович и друг Кирилл Иванович Маргарянц, написали о Боре краткие эссе, которые публикуются далее.
Борис Усыскин
Эпизоды из жизни Подготии
Почему вспоминаются события пятидесятилетней давности?
Бывает так, что совершенно неожиданно, неизвестно почему, вдруг вспомнится какой-то давнишний эпизод своей жизни, какое-то событие пятидесятилетней давности, о которых, казалось, ты уже забыл навсегда. Одно воспоминание вдруг вытянет какое-то другое, а оно высветит следующее... И думаешь, неужели я всё это помню, неужели всё это было? Так в последнее время в связи с всеобщим ностальгическим поветрием, стала вспоминаться Подготия. Во-первых, почему-то, наши преподаватели. Они были разные! Были военные, были и те, по существу не военные, но звания им давались, исходя из каких-то других причин – занимаемой должности, что ли, – звания офицеров так называемой административной службы. Были и чисто гражданские. Вот они странно толпятся перед моим внутренним взором, то появляясь, то исчезая вновь. Это «Тётя Утя», «Катюша Маслова», «Митрофан», «Ирка-Транец», «Лирик», «Шпион», «Аранжеман», «Цыфиркин», наконец, «Осколок» (империи), Похвалла и многие другие, не получившие порой доброжелательных, порой насмешливых прозвищ. Ну, раз первая попалась Тётя Утя, начну с неё. Честно говоря, я её даже толком не знал. Она преподавала историю в соседнем классе, расположенном напротив, дверь в дверь через коридор, называвшийся у нас аппендиксом. Она была небольшого, даже скорее маленького роста, ходила слегка вразвалочку, как уточка, за что и получила название Тётя Утя. Её любили. Когда она после урока выходила из класса, за ней шло несколько человек, как бы о чём-то недоговорив. Она была мамочка, такая добрая мамочка, за которой тянулись. Этим она, вероятно, и брала. Ведь мы ещё по существу были дети, хотя и заносчивые, носившие морскую форму. И нам в обстановке «отцов-командиров» и «товарищей преподавателей» не хватало порой материнского участия. Катюша Маслова, насколько я её понимаю, так как она преподавала литературу в том же соседнем классе, была полной противоположностью Тёте Уте. Она была высокая со слегка вьющимися волосами, и, на теперешний мой взгляд, чем-то напоминала Александра Блока на той его довольно известной фотографии, которую он подарил нескольким близким ему людям. Тоже пользовалась уважением, за ней также часто ходили, что-то обсуждая. Она привлекала, очевидно, своей интеллигентностью, умением держаться, вести себя в любой обстановке. Была как бы впереди своих учеников, но не убегала от них далеко, вызывая желание постоянно тянуться за ней, догонять её. Но вот почему между собой мы её называли не своим именем, а Катюшей, хотя настоящее её имя было Александра, и какое отношение она имела к толстовской героине, трудно дать однозначный ответ. Вероятно, никакого. Просто по каким-то непонятым законам так получилось. Просто языку так проще было болтануть – Маслова, – значит Катюша.
Историк Митрофанов (Митрофан)
И вот подошёл день экзамена по истории. Накануне, как водится, была консультация, на которой Митрофан должен был дать последние наставления – как сдавать экзамен, на что обратить внимание, ещё раз объяснить какие-то плохо усвоенные места и многое другое. Но... не успел он открыть рот и произнести первую фразу, как мы дружно, хотя и не сговариваясь, без тени смущения, скорее даже нагло потребовали: – Товарищ преподаватель! Билеты на экзамене положите по порядку! От такой неожиданной наглости Митрофан залепетал что-то испуганно-невнятное: – Что? Как? Нет... нельзя, не буду... не хочу... Тогда мы, упорно глядя ему в глаза, повторили: – Товарищ преподаватель, билеты положите по порядку... И, железня голоса, припугнули: «Иначе мы все завалим экзамен...». Ещё больше перепугавшись, Митрофан продолжал что-то трусливо бормотать: – Нет... не полагается, не могу... нет. Перед экзаменом Митрофан положил билеты по порядку! Это выяснилось сразу. Первыми пошли отвечать "разведчики" – два человека, которые знали историю лучше других. Один взял билет с одного края, другой – с другого. Всё стало ясно – билеты лежали по порядку! Ай да Митрофан! всё-таки решился... И первая смена пошла спокойно – каждый тянул «свой» билет, чётко зная его место расположения к моменту выхода к экзаменационному столу. Но к концу первой смены совершенно неожиданно «система» дала сбой. К экзаменационному столу вышел Генка Травкин. Он был зачастую импульсивным и непредсказуемым. Обладая каким-то насмешливо-ироничным юмором, он мог какую-либо фразу из учебника истории, ничего в ней не изменив, кроме интонации, произнести так, что все начинали хохотать. Помню два его любимых высказывания. Ближе к вечеру, как бы походя, он с незаметной иронией частенько произносил: – «Эх, скорей бы ужинать да спать!». Но особенно запомнилось мне другое его изречение, обычно произносимое им после того, как он раздевался до формы ноль для сна и перед тем как укрыться с головой одеялом. Он с какой-то иронично-напускной тоской ожидания (ну когда же наконец!?) произносил: "Эх, скорей бы коммунизм!". Вот этот Травкин, подойдя к экзаменационному столу (какой импульс в нём сработал?), стал демонстративно отсчитывать координаты «своего» билета и, не глядя, безошибочно назвал его номер. Ирка-Транец (а именно она была ассистенткой на экзамене), почуяв что-то неладное, мгновенно оторвала одноимённую часть своего тела от стула и перемешала все билеты. Это был конец! Это была катастрофа!! Это были «кранты»!!! Но, тем не менее, первая смена всё же как-то удачно проскочила. Атмосфера сгущалась, так удачно начавшийся экзамен грозил плохим его завершением. После обеда наступила очередь второй смены. Открыли класс, и мы все вошли. Был только Митрофан. И тут мы, воспользовавшись отсутствием нашего горячо любимого Транца, как и на консультации, безапелляционно стали требовать: – Товарищ преподаватель, где лежит (например) 21-й билет? Митрофан начинал послушно рыться в билетах, выискивая нужный: – Вот! – показывал он. – Где 15-й?, где 17-й?, где...и так далее. Митрофан всё также послушно выискивал билеты и указывал – вот его место! Наконец, те, у кого уже был «свой» билет, успокоились, и выкрики приобрели другой характер: – Товарищ преподаватель, дайте мне билет! Митрофан послушно вытаскивал первый попавшийся билет, называл его номер и показывал место, куда его положил. Наконец, выкрикнул и я...Митрофан поднял голову, посмотрел на меня и досадливо махнул рукой: – А Вы-то уж сидели бы со своей четвёркой, у других хуже... Вот она, проклятущая четвёрка. Начала своё дело... Итак, не имея весомого груза знаний по истории, зато имея предварительно выставленную четвёрку, я остался и без «своего» билета. Вскоре пришла Транец, и вторая смена началась. Я взял билет. Вдруг (опять «вдруг», которое означало начало новых поворотов, появление каких-то неожиданных коллизий) неожиданно открылась дверь, и в класс стремительно внёс своё крупное тело начальник учебного отдела (или цикла истории и географии?) капитан I ранга Добровольский. Чёрт возьми! Этого мне только не хватало. Мало было Митрофана и Ирки-Транец, которые к этому времени уже неотрывно следили за каждым моим движением, так ещё и этот припёрся! Это был полнокровный, я бы даже сказал – очень полнокровный мужчина. Увидев всего один пустой стул, он уселся рядом со мной. Стул натужно «крякнул», но устоял. Это уже была невезуха, я бы сказал даже системная невезуха. Я находился в полном непонимании того, что же мне делать дальше, что предпринять. Так продолжалось недолго. Из этого состояния меня внезапно вывел какой-то странный звук, исходящий со стороны внезапно появившегося начальника. Скосив глаза влево, я увидел, что сопение исходило именно от него: – он впал в то состояние, в котором зачастую оказываются тучные мужчины, оказавшись в полном покое. Ах так! – решил я, – тем лучше! Ситуация мгновенно изменилась коренным образом. Теперь мы все выровнялись в своей иерархии. Начальник был один – тот, который мирно сопел мне в левое ухо, а мы все – и я, и Ирка, и Митрофан, и даже те, кто ожидал своего вызова к экзаменационному столу – все были подчинённые. Я решил действовать «по-нахалке» и полез за учебником, который торчал у меня за кожаным ремнём, затянутым медной бляхой. Нагло полез, теперь уже не обращая внимания ни на Митрофана, ни на Ирку. От такой наглости Ирка аж подскочила на стуле и отчаянно замахала на меня руками, стараясь не прервать уже слышанного всеми в полной тишине сопения. Окончательно обнаглев, также соблюдая беззвучность, чтобы не разбудить начальника, я махнул на неё рукой: – А пошла ты...! Тут с ней что-то произошло, вроде внезапной потери сознания. Она вдруг рухнула в кресло, продолжая пребывать в какой-то растерянности, в трансе, что ли. В классе установилась абсолютная тишина, в которой было отчётливо слышно только сопение да еле слышный шелест страниц учебника истории, в котором я пытался найти ответы на вопросы билета. Но эта «идиллия», к моей досаде, продолжалась недолго. Внезапно (опять вдруг!!!) сопение прекратилось, и наш общий начальник, подняв голову и пытаясь понять, где он и что происходит, вдруг резко поднялся и быстро выскочил из класса. Всё возвратилось «на круги своя»... За экзаменационным столом сидели начальники – Митрофан и Ирка, я был подчинённым. Теперь они оба смотрели в упор на меня, ни на миг не спуская с меня глаз. Они буквально буравили меня – эти два преподавателя, их четыре глаза. Казалось, что они ждут от меня какого-то толчка, одного неловкого движения и... тут же Ирка бросится и не стесняясь выхватит у меня «из широких штанин дубликат бесценного груза» знаний. Понимая, что всякое движение смерти подобно, я не шевелился. Пока надо было тянуть время, надеясь на какое-то чудо, а там видно будет. Вдруг (очередной раз!) дверь резко отворилась, и в класс решительно вошёл командир роты капитан Моргунов. Бросив взгляд на происходящее и мгновенно, как и полагается командиру, оценив обстановку, он произнёс громким командирским голосом: – Усыскин! Берите билет! – Нельзя, нельзя, – зашелестели Митранцы, – он и так уже взял второй билет... Тогда командир ещё более громким и ещё более командирским голосом повторил: – Усыскин! Берите билет! Это был приказ. Приказ командира, который должен быть выполнен в соответствии с Уставом беспрекословно, точно и в срок!!! Получив такую мощную поддержку и совершенно ясно понимая, что возьми я хоть третий, хоть пятый, хоть десятый билет, результат будет один и тот же, так как я не знал ни одного билета, я решил действовать по парадоксу, как в одной райкинской миниатюре: «ты хотел ошарашить мине, а я ошарашу тибе». И я громко сказал: – Разрешите выйти на пять минут, мне надо... Что надо, я произнёс нарочито невнятно – пусть думают сами. Ну а где пять минут, там и десять. В полной тишине и молчаливой растерянности прозвучал громкий голос командира: – Идите! Я не заставил себя долго ждать и, как торпеда, выпущенная из аппарата, мгновенно выскочил из класса и тут же влетел в соседний класс, находившийся напротив, дверь в дверь. Здесь, как оказалось, уже давно следили за моим так надолго затянувшимся единоборством с экзаменационной комиссией, не зная, как помочь. Передо мной мгновенно раскрыли учебники истории на нужных страницах, где были ответы на вопросы билетов, благо их осталось всего-то два. Я успел прочитать ответы на один билет, как вдруг (!!!!!) открылась дверь и меня потребовали обратно в класс. Я возвратился. Передо мной на столе лежали оставшиеся два билета и всё те же глаза со злой обидой упрямо сверлили меня, как бы говоря: «Ну что с ним делать? Пусть тащит билет. И чёрт с ним!». Таким образом, моё упрямое единоборство уже принесло кое-какие плоды. Возникла вероятность вытащить внезапно появившийся «свой» билет. И не просто «свой». Эта вероятность как бы чудесным образом достигла 50% – пятьдесят на пятьдесят, фифти-фифти! Мне достаточно было что-то вякнуть мало-мальски имеющее отношение к содержанию вопроса, назвать хотя бы какие-то факты, имена и хотя бы одну дату, и вконец измученные мной экзаменаторы поставят мне с великим облегчением и радостью тройку («А ну его к чёрту, надоел!»). Итак, два билета. Какой брать? Я решительно, как и полагается будущему офицеру, протянул руку и шлёпнул ею по одному из билетов и перевернул его. Далее я пропускаю четыре страницы проклятий и ругательств на языке подготов: – я умудрился вытащить не тот билет, не ту «фифтюлю»!... Экзамен, несмотря на мою изворотливость, несмотря на «погибаю, но не сдаюсь!», несмотря на помощь командира, на помощь корешей, я благополучно «завалил». Далее всё было скучно. После летней практики была переэкзаменовка.
На практике не до истории
Практика проходила на форту Серая Лошадь. Была прекрасная погода, чистые песчаные берега, далеко уходящие в залив, по своей форме повторяющие неспешно набегающие волны, и пескари во впадинах песчаных волн, которых мы зачастую ловили руками. Были шлюпки и хождение на них на вёслах и под парусами. Были шхуны «Учёба» и «Надежда».
Лето 1947 года. Первый поход на шхуне «Учёба» к форту Серая Лошадь
Была та самая знаменитая комариная ночь, так красочно описанная Виктором Конецким, когда комары «все вдруг» переходят из водяной в летучую фазу и набрасываются на всех, кто им попадается. От них не было спасения. Одни искали его, убегая из барака в палатки, другие – из палаток на свежий воздух, на ветерок. Некоторые, наоборот, пытались спрятаться в бараке. Кто-то жёг костры. Всё было напрасно. И лишь с восходом солнца, как помнится, эта «казнь египетская» как-то сама собой утихла.
1947 год, Финский залив. «Надежда» в тумане
Было всё, кроме желания что-то читать в учебнике истории в этой обстановке. О какой подготовке к пересдаче экзамена по истории могла идти речь? Да и какое желание у преподавателей принимать экзамен могло быть? Но я всё же готовился (или пытался готовиться). Особенно запомнился какой-то Едрю или Ледрю Руллен, или, кажется, Роллен, который что-то, в каком-то парламенте..., да, вроде, в парламенте, в Английском или Французском?... впрочем,... хотя... нет, всё же в Английском или во Французском? Да, во Французском! Ну да ладно, в этом парламенте он что-то сказал..., нет, выдвинул или потребовал, а они в ответ... но он в связи с этим возразил и стал..., и тогда они..., но он не сдавался, что заставило их в свою очередь…, но этот самый Разъядрю снова выступил и стал доказывать свою правоту, зачитывая полностью какие-то документы политические, статьи из толстых журналов, всякий раз говоря, что в подтверждение своих слов он зачитает высказывание такого-то, опубликованное во влиятельном журнале, и читал чуть ли не весь журнал. Не прерывая чтения, заглатывал сэндвичи и запивая уже забыл чем, принесённым его сторонниками. Всё это делалось без остановки, дабы его не прервали и не дали слова другому оратору, кажется, уже несколько суток. Помню, как я пытался выучить эту тягомотину, упорно читая учебник в совершенно не приспособленных для такого рода занятий условиях, где даже и спали-то мы почти вповалку на общих нарах, уложенных горбылём, и определяя своё место только по тому, что слева от меня должен спать Валька Жемчужин, а справа – Жора Вербловский. Далее, как я уже сказал, всё было очень скучно. Когда я пришёл на пересдачу экзамена и взял билет, оказалось, что мне, конечно же, достался этот самый «Разъядри Яво Ядрён». Я как будто бы с ним и не расставался. И я начал «жевать мякину» – рассказывать, как он и как в ответ его, и как он тогда...Принимавшим экзамен было откровенно скучно. Казалось, они думают о том, что стоит прекрасная погода, о таких девственных, никем не затоптанных берегах этого форта, где твои следы казались первыми отпечатками ног человека на этом безлюдном берегу. Возможно, им даже жалко было бедного воспитанника, вынужденного что-то говорить перед ними, зачем-то... Когда я закончил «жевать», они, как бы слегка проснувшись, попытались что-то сказать, задать какой-то вопрос, что ли, но так и не задав его, как бы автоматически, заранее зная, что будет дальше, проставили в какой-то бумажке отметку, меньше которой не полагалось ставить, а больше... больше было затруднительно получить.
Химик – лирик
Продолжая о преподавателях, с химиком было всё ясно. Химик был лириком. Химик Попов любил лирические отступления. И прозвище у него – «Лирик». Он был хороший преподаватель, но когда кому-то, вероятно, из озорства, хотелось поскорее отделаться от химических формул, раздавался притворно заинтересованный голос (кажется, Травкина), произносящий что-то вроде: – Товарищ преподаватель, а вот как Вы на реке Чусовой...? Тут же химия прекращалась, и Попов впадал в лирическое отступление и с упоением рассказывал, как он во время летних каникул путешествовал по реке Чусовой. Все затихали, боясь прервать поток лирических воспоминаний. И, наконец, раздавался долгожданный звонок. На следующем уроке повторялось то же самое, но путешествие было уже по реке Белой. Иногда мне казалось, что эта страсть к путешествиям по рекам была главным в его жизни, а химия, – ну что тут поделать, надо же где-то работать, как-то зарабатывать на реки. Неплохой был мужик, не то что какой-нибудь зануда «товарищ преподаватель». Когда мы иногда собираемся, то почему-то вспоминаем не это, а знаменитую поповскую перчатку. У него была своя резиновая перчатка. Чтобы не пачкать руки мелом, он надевал резиновую перчатку. Когда же снимал, то выворачивал её наизнанку. Пережав основание, он давлением воздуха внутри заставлял окончательно выворачиваться перчатку. И раздавался всем запомнившийся больше всего звук вдруг выскакивающих выворачивающихся пальцев – п-ПА! Надо же, почему-то он больше всего запомнился: – п-ПА! и вывернулся один палец, п-Па – ещё два, п-ПА! – остальные.
Лесная – Левенгаупт
А вот ещё одна фигура вдруг выплыла из памяти. Это был историк. Фамилии его я уже не помню, вероятно, потому, что он у нас числился больше под прозвищем «Шпион». В нём была какая-то странность, к которой я постепенно привык, но которую всё же не забыл. Он был высокого роста, какой-то обтекаемой фигуры, казался очень сильным. В наших глазах он виделся скорее с молотом в руках, чем с учебником истории. Стремительно входя в класс, даже как бы врываясь, внося свою сильную устремлённую вперёд фигуру, он вёл себя так, как будто уже ждал от нас какого-то подвоха или даже уже тайно совершённого хулиганства (насмешки). В этом и была его особенность – желание сильного, но не уверенного в себе человека расправиться за что-то предполагаемое, о чём он даже не знал, но с другой стороны, обязанного держаться в определённых рамках, предписанных профессией преподавателя. У него был свой метод преподавания, который заключался в том, что мы в его представлении лучше запомним произносимый материал зрительно. И он старательно выписывал на доске по мере изложения материала крупным и чётким почерком названия исторических мест, имена героев, названия битв. До сих пор стоят у меня перед глазами написанные им через всю доску слова: Левенгаупт и Лесная, особенно крупные буквы Л, от которых отходили эти два слова. Вероятно, для людей, лучше зрительно воспринимающих информацию, это действительно был неплохой метод. Уже не помню событий, связанных с этими именами. Кажется, это была битва при какой-то Лесной, которую выиграл, или наоборот проиграл этот Левенгаупт. Пришлось заглянуть в энциклопедический словарь. Лесная – это деревня недалеко от Могилёва, где 28 сентября 1708 года Петр 1 разгромил корпус шведского генерала Левенгаупта, шедший на соединение с Карлом Двенадцатым. Эта победа в значительной степени повлияла на исход Полтавской битвы. Однажды этот преподаватель совершенно неожиданно появился у нас в столовой. Его появление было не только странным, но и противоестественным:– здесь была наша внутренняя жизнь, здесь могли быть только наши отцы-командиры и обслуживающий персонал столовой. Он шёл как всегда, своей стремительной походкой в проходе между рядами столов куда-то в сторону камбуза. Это привлекло всеобщее внимание и даже вызвало некоторое удивление (что ему здесь надо?). И кто-то за нашим столом ехидным и удивлённо-насмешливым голосом произнёс:– «Шпион!?». С тех пор это прозвище и прилипло к нему. Как его фамилия? Не помню... Шпион...
Аранжеман и Цифиркин
А вот ещё выплывают две фигуры. Почему-то вместе. Оба они были математики, то есть преподавали математику в нашем классе в разное время. При всей своей внешней несхожести они чем-то походили друг на друга. Один был скорее маленького роста и напоминал доброго смешного ёжика, другой был худощав и по сравнению с первым выглядел высоким, во всяком случае он был немного выше среднего роста. Но что-то всё же в них было общее. Оба носили очки и смотрели на нас сквозь стёкла по-доброму и с некоторым любопытством, как бы спрашивая самих себя, кто мы такие: вроде бы ещё школьники, но, с другой стороны, одеты в морскую форму. Военная дисциплина, доклад дежурного преподавателю («Товарищ преподаватель!») о том, что в классе по списку столько-то человек, столько-то больных и столько-то на дежурстве. Они оба были опытными преподавателями, и не принадлежали к типу преподаватель-начальник или к противоположному безвольному типу, при которых появлялось желание «нарушить дисциплину» на уроках. Для них главное – это был предмет занятий. И на уроках возникала какая-то добрая доверительная атмосфера, желание знать математику. И даже было несколько человек, особо успевающих по этому предмету: кажется, Юрка Портнов и Борька Букин, и ещё кто-то. Все хорошо помнят «математическую шишку» Букина на лбу. Этому доброму ёжику я дал прозвище Аранжеман. Тогда по математике изучали целый раздел, который назывался комбинаторика, и который, как мне сказали, теперь отсутствует. В ней было три действия: сочетание, перестановка, перемещение. Одно из этих действий называлось, кажется, аранжеман. Остальные названия уже не помню. Почему – АРАНЖЕМАН? Даже я, автор этого прозвища, не могу точно объяснить. Ну, во-первых, оно было похоже на фамилию. Во-вторых, в ней присутствовал какой-то зрительно-слуховой образ: чувствуешь – аранжемааан! И потом – он же преподавал нам эту самую комбинаторику. Увы, фамилии его я не помню. Жаль! Хороший человек не должен быть забытым. Надеюсь, кто-нибудь его помнит. Фамилию второго, того, что повыше, я как-то вспомнил: Журавский, конечно же Журавский! У него всё лицо и руки были обожжены, на них были характерные для обожжённого тела рубцы на коже. Это было следствием войны. Однажды эшелон, в котором он находился, остановили на какой-то крупной станции. На разных путях стояло много других эшелонов, в том числе цистерны с бензином. Когда начался налёт немецкой авиации, цистерны загорелись, и пламя полыхнуло сквозь набитый солдатами вагон – двери были открыты с двух сторон. Ему ещё повезло – он стоял сбоку от открытых дверей, и пламя обожгло ему в основном открытые части тела. Его спасло то, что, как он говорил, он был в очках, и успел руками прикрыть лицо. Такова версия, которую, как помнится, я слышал от него самого. Надо сказать, что у Журавского тоже было прозвище, совершенно не характеризующее его, – Цифиркин. И дал его всё тот же импульсивный Травкин (мне так и слышится его тонкий в этот момент насмешливый голос). Ох уж, эта травкинская импульсивность... Она впоследствии сыграла с ним злую шутку. Впрочем, оба прозвища не прижились. Когда их произносили, то в лучшем случае знали, о ком идёт речь. Не более того. Хорошие были преподаватели и люди. Я до сих пор вспоминаю их обоих с добрым чувством и уважением.
Популяризатор Вселенной
А вот ещё милейший Василий Иосифович Прянишников. Я знал его ещё по школе. Он приходил к нам в школу и вёл кружок «Занимательного мироведения». Он был прекрасный популяризатор. Видел свою главную задачу не столько в том, чтобы научить нас чему-то, а чтобы привить нам любовь к окружающему миру, желание его понять, развить интерес к познанию процессов, происходящих в этом мире. Он зачастую таскал нас по различным научным обществам, организациям, учебным заведениям. Помню, как однажды он привёл нас в Университет, в этот длиннющий коридор, в одну из аудиторий, расположенных вдоль него, на лекцию по какой-то проблеме астрономии, которую читал академик Амбарцумян. Конечно, всего мы не поняли, но всё же что-то осталось в голове. Мы почувствовали этот высокий дух науки, нечто, стоящее выше обыденных забот, окружавших нас, совершенно другие масштабы вселенной – световые года, парсеки, мегапарсеки, Млечный Путь... В те годы регулярно, раз в месяц, в одной из ленинградских газет печаталась заметка с одним и тем же названием «Небо в сентябре» (или октябре и т.д.) за подписью Василия Иосифовича, после которой шёл перечень его титулов: Почётный член Астрономо-Географического общества, член общества по распространению политических и научных знаний и так далее. В его статьях рассказывалось, какие в текущем месяце будут видны созвездия, наиболее яркие звёзды (α, β), планеты, в какой части неба они будут расположены и где – ближе к горизонту или к зениту. Будучи невысокого роста и полноватым, он, как и многие в его возрасте, имел какие-то смешные, порой трогательные привычки. Помню, как, желая объяснить расположение небесных тел относительно друг друга и их движение, он, показывая на собственную голову, говорил: – Солнце. Затем, поднимая сжатый кулачок правой руки к голове и пытаясь его вращать вокруг «собственной оси» и вокруг головы-Солнца, он произносил: – Земля. Вращается! Затем, поднося кулачок левой руки к правому и также изображая его вращение, при котором одна его сторона была обращена к кулачку-Земле, также произносил: – Луна. Вращается! Хотя он преподавал астрономию, но в душе оставался любящим своё дело популяризатором. Ему было чуждо и, наверное, непонятно желание некоторых преподавателей держать нас в руках, следить за нашим поведением и хитростями на уроках. Однажды во время урока астрономии, который вёл Прянишников, вдруг резко открылась дверь, расположенная сзади и слева от нас, и в класс решительно вошёл начальник цикла истории и географии капитан I ранга ... Конечно, ему всё сразу стало видно – ведь он был сзади и вошёл быстро и неожиданно, как мы беззастенчиво пользуемся учебниками, выполняя какое-то задание. Громким голосом, каким, скорее, отдают команды, он произнёс: – Василий Иосифович! Вас околпачивают! Добрейший Василий Иосифович смотрел непонимающе. Что же это означает? И что ему надо делать в этой обстановке? Он был популяризатор. Популяризатор МИРОВЕДЕНИЯ.
«Боцман парусного флота»
Был ещё один предмет с довольно необычным и даже странным названием – мастерские, где изучали морские узлы, боцманские дудки, что-то пилили, строгали, сверлили, шабрили – ведь моряк должен уметь всё! Преподавал его очень пожилой и даже старый подполковник Бабко, бывший уже, вероятно, в отставке. Кто-то пустил слух, что он служил ещё в парусном флоте, что было совершенно невероятно, даже учитывая его возраст. Возможно, эту легенду подпитывало то, что он преподавал уже отживающие свой век такие дисциплины, как, например, дудки и морские узлы, которых он знал великое множество из каких-то далёких (парусных?) времён, многие из которых уже давно не применялись, и были поэтому основательно забыты. Например, выдаст вдруг какой-нибудь каболочный узел. Прежде чем продемонстрировать тот или другой узел, надо было произнести одну (максимум две) фразы, характеризующие его, – назначение и применение. До сих пор помню характеристику практически ушедшего в прошлое узла, называвшегося пьяным: – «пьяным узлом вяжут руки буйствующего матроса при сопротивлении». По команде подполковника Бабко: «Завяжите и развяжите пьяный узел» надо было уложиться в норматив, демонстрируя это «развяжите» и «завяжите». Старикан был добрый и все наши шалости (иначе это не назовёшь) старался пресекать как-то по-стариковски беззлобно. Вот Кузовников пришёл сдавать ему узлы за другого – за Гамзова. Всё вроде бы было хорошо. Узлы были завязаны и развязаны правильно, и старикан спросил: «Как Ваша фамилия?». Кузовников по забывчивости или некоторой рассеянности назвал свою фамилию. Вдруг сообразив, что он сдаёт за Гамзова, стремительно удирает. Дед кричит ему что-то вдогонку, но... Через какое-то время (старикан уже, наверное, забыл его) Кузовников снова идёт сдавать узлы. Перед этим Гамзов ему упорно втолковывает: – Не перепутай опять. Ты идёшь сдавать за меня, за Гамзова. За Гамзова, за Гамзова... Но дед был не лыком шит. Хитро прищурив один глаз, и делая вид, что хочет записать в журнал, он невинно задаёт тот же вопрос, но по-другому: – За кого сдаёте? И Кузовников, перед этим убеждённый Гамзовым, чётко отвечает: – За Гамзова. И тут же, поняв, что попался, немедленно убегает. Будешь знать, как говорить правду! А что делалось на уроке, когда изучали боцманские дудки и сигналы, подаваемые ими! Весь класс одновременно дудел в них в полную мощь своих юношеских лёгких, стараясь передудеть друг друга. Каждый сигнал обозначал какую-то команду, но все вместе они создавали что-то дикое, неописуемое, в чём ухо не в состоянии было различить что-то раздельное. Сама дудка издавала две ноты, которые можно передать буквами «а» и «ы» в соответствии с открытым или закрытым отверстием на ней. Их сочетание и перестановка обозначали соответствующий сигнал. А-ы-а, а-ы-а, а-ы, а-ы, а-ы-а! Это что за сигнал? Кто помнит? Но однажды старикан поразил нас, после чего мы его зауважали. Была какая-то знаменательная дата, и он явился в форме. Вся грудь в орденах и медалях, он торжественный и помолодевший, так что у нас отпало желание называть его стариканом. Казалось, на нас пахнуло чем-то очень далёким, что перед нами стоит живой участник русско-японской войны. И это нам льстило и давало повод для всевозможных мистификаций, таких, как, скажем, будто бы дед действиельно участвовал в русско-японской войне, помнил ещё адмирала Макарова С.О. и, будучи в те далёкие времена ещё лихим мичманом, принимал участие в бою Варяга с японской эскадрой. Якобы сам художник Верещагин написал его портрет. Но, увы, портрет не сохранился, погиб во время этого боя вместе со знаменитой коллекцией почтовых марок командира крейсера Варяг капитана I ранга Руднева, в которой были редчайшие экземпляры, такие, как голубой маврикий. Так в нашем воображении рождались легенды.
ЛВМПУ, 1947 год. Занятия в одном из кабинетов военно-морского дела. В этих же кабинетах мы изучали троса, узлы и сигналы боцманских дудок
И вот он, этот самый Бабко, преподаёт нам (!!!) все премудрости морского дела, используя ещё старые традиции и знания, зачастую уже утраченные: «простой штык применяется при швартовке корабля для его крепления за пушки и палы». Видя наше недоумение, терпеливо объясняет: пушки – это торчащие стволы закопанных в землю орудий, а палы – это чугунные или железобетонные тумбы, закреплённые на причале, за которые заводятся концы при швартовке корабля или судна. Всё это надо было знать слово в слово, как молитву. А это кто? Грубое мужицкое лицо, складки да морщины, китель с погонами майора – всё это придаёт ему неожиданную значимость. Вроде и не преподаватель. Как он сюда забрался? Да это же майор Васильев! Забрался-таки и сюда – как же без него?
СМЕРШ
Тёмная, глухая ночь. Комната дежурного офицера. В комнате трое: дежурный офицер и два рассыльных – воспитанника. Дежурный старается разогнать сонное состояние и потому, когда уже невмоготу, решительно вскакивает и идёт проверять несение службы дневальными (не спят ли?!), караульное помещение, посты часовых. Рассыльные тоже пытаются бороться с захватывающим их сном. Вязкая одурманивающая тишина. Неожиданно происходит какое-то движение, и голос дежурного офицера, сначала как бы издалека, а затем совершенно чётко произносит: – Рассыльный воспитанник Усыскин! Вас вызывает майор Васильев! Сон мгновенно исчезает, как будто десять секунд назад не было сна. Майор Васильев? Зачем я ему? И главный, подспудно возникающий вопрос: меня? Почему именно меня? Или меня как рассыльного? Перед дверью кабинета майора Васильева подтягиваю брюки, придаю выражению лица решительность, стучу в дверь. – Войдите! Вхожу, делая два шага вперёд. Ближе подходить к столу нельзя! Вдруг увижу там что-то такое, что знать мне не положено, какую-то государственную тайну, которую может знать только один майор Васильев, олицетворяющий СМЕРШ (Смерть шпионам!). Он – «недремлющее око государево», он бдит даже по ночам. На столе какие-то бумаги, документы, ручки, карандаши. Всё в рабочем беспорядке – ночная работа! Между тем майор, сурово глядя на меня, отдаёт какое-то пустяковое, никчёмное приказание типа: – Возьмите эту бумагу и отдайте дежурному офицеру. Только теперь подхожу к столу, беру, не глядя на всё остальное, указанный мне документ. – Разрешите выйти! – Идите! Поворачиваюсь кругом через левое плечо и выхожу, делая шаг с левой ноги. Выйдя за дверь, выдыхаю из себя воздух: – Ху-у-у... Наконец-то всё кончено... И только теперь, много лет спустя, думаю, зачем эту никчёмную бумажонку нужно было передавать ночью, какая для этого была спешка? И всё более и более прихожу к мысли, что это делалось для того, чтобы внедрить в сознание ещё несовершеннолетних, по существу мальчишек, что СМЕРШ не дремлет! И думаю, что же этот майор Васильев действительно не спал по ночам? А что он делал днём? Тоже не спал? Вообще не спал, бдел?! Вряд ли. Дрых, наверное, в своём кабинете. И что это за пристрастие у этого департамента к ночной работе? А вдруг этот майор, пытается найти какую-то политкрамолу? И ведь нашёл же! Нашёл, что Донзаресков был вовсе не Донзаресковым, а, вот ужас!… Донзареску! Майор Васильев раскопал, что у кого-то со старшего курса родители или какие-то родственники были кулаками, и парня отчислили. А у Пиотровского по прозвищу Пецо (сам не знаю почему)…Что он мог найти у Пецо? Пецо был великий часовых дел мастер. Он при помощи всего двух инструментов – циркуля-измерителя и перочинного ножа – мог отремонтировать любые часы, что он блестяще и проделывал. Минимум раз в неделю он разваливал свои часы типа кировских на парте и этими инструментами приводил их в порядок. После каждой такой разборки-сборки они ходили. Так что куда там майору Васильеву до Пиотровского-Пецо, этого Кулибина 143 класса! Надо сказать, что майор Васильев всё же «дал маху», ибо там, куда ушли «вынюханные» им, многие из них достигли высоких постов. Донзаресков и Пиотровский стали капитанами рыболовных траулеров, а затем Дон был начальником Главного Управления «Севрыба», рыболовным адмиралом!
Шкентеля
Помнится, как нас всех, вновь зачисленных, строили по росту в длинном коридоре перед кубриками и распределяли по ротам. На левом фланге стояли самые длинные. А мы, самые маленькие по росту, стояли на шкентеле и оказались в самой последней, двенадцатой роте. Нас называли шкентелями. Двенадцатая рота – это был не пустой звук! У нас вскоре сложились свои обычаи, свои нравы, свой мир и даже свои болезни. Детские, конечно.. Когда кто-то из нас заболел скарлатиной, в нашем классе объявили карантин. Какие это были незабываемые, весёлые времена. Мы чувствовали себя на особом, привилегированном положении. Все правила, распорядки коренным образом изменялись. Мы этим пользовались и воспринимали как забаву, очередное развлечение. Весь инкубационный период мы не ходили на утреннюю пробежку. Завтрак, обед и ужин нам приносили в класс. Как это было здорово! Преподаватели с опаской входили в наш класс, облачившись в белые халаты! Вдруг какая-нибудь микроба застрянет в их одежде! А эти самоволки! Их особый род, доселе не известный в нашей среде – самоволки в гальюн! Обычно нас «накапливали» человека по 3-4 и вели строем. Мы гордо шли между заранее расступившимися ребятами из соседних классов, как бы говоря: – Отскочи, а то скарлатиной заражу! Когда надоедало ждать накопления, просто убегали сами, наплевав на скарлатину и карантин.
И даже после окончания карантина некоторые пытались получить «дивиденды» с него. Так, Юрка Фурманов (кажется, племянник того знаменитого Фурманова, который был комиссаром в дивизии Чапаева и написал знаменитую в своё время книгу о нём) доказывал преподавателям, что все его учебники и конспекты облили во время дезинфекции какой-то гадостью и сожгли, и, следовательно, спрашивать с него нечего. Весело было. Что тут скажешь? – шкентеля!
О стуле
А эти длинные, которые были по своему физическому развитию почти взрослыми, смотрели на нас свысока, порой снисходительно, даже пренебрежительно. Но мы в обиду себя не давали. Наша тактика напоминала действия лилипутов, спутывающих руки и ноги уснувшего Гулливера. Сначала мы выбирали жертву – одного из самых здоровых, который имел неосторожность, не ведая надвигающейся опасности, находиться рядом с нашим классом. Незаметно окружив, мы все вдруг набрасывались на него, не успевшего ещё сообразить, что же происходит, и с диким криком затаскивали в свой класс. Захлопывали дверь, а затем, крепко держа жертву за руки и за ноги всей стаей, мгновенно стаскивали с него брюки и с радостными криками таскали оголённым транцем по всему классу. «Великан», к этому времени уже опомнившийся, пытался вырваться из цепких лап «лилипутов», издавая дикие звуки. Но всё было напрасно. На этом месть лилипутов не заканчивалась. Удовлетворившись радостным зрелищем полировки классного пола транцем жертвы, мы подтаскивали её к двери и выбрасывали вон из класса. И запирали дверь на стул. Да, именно, на стул! Это был тот самый стул, уже неоднократно упоминавшийся ранее, который натужно «крякнул», но устоял… Между тем, пришедший в себя «великан», начинал бушевать. Он издавал такой устрашающий рёв, так дико колотил в стены, в дверь, желая не напугать, а пробить эту дверь. Но всё было напрасно! Стул, одна ножка которого была просунута в дверную ручку так, что дверь и стена составляли единое целое, мог выдержать всё. Постепенно «великан» терял силу, яростный рёв и удары, сотрясавшие стены, стали ослабевать и, наконец, затихли совсем. Потерявший последние силы и униженный он уходил. Следующая жертва уже ждала своего часа. Камовников
С одной стороны большого коридора были окна, выходящие во двор, с другой – кубрики. Что здесь только ни происходило!! Всякие истории вдруг вспоминаются. Но почему-то в последнее время всё чаще вспоминается история с Камовниковым, как его отчисляли из Подготки. За что? Да ни за что... Я не могу оценить не только действительную тяжесть совершённого им проступка, но даже и вспомнить, в чём он состоял. Есть такие шустрые, подвижные, насмешливые подростки, от которых не знаешь, как избавиться, какой выходки ждать, которые тебя тормошат, не дают спокойно что-то сделать. Таков был запомнившийся мне Камовников. За это, вероятно, его и отчислили. Но предлог, конечно, нашли другой. Теперь, по прошествии полувека, думаю, что он мог такое совершить? И утверждаюсь во мнении, что ничего. Это была просто дикость того режима, когда несовершеннолетнего мальчика можно было поставить перед строем, где двести глаз отторгали его, и старшина роты с полной уверенностью в совершении патриотического дела и со зверским выражением лица, зачитав приказ об отчислении, злобно срывал погоны с его детских плеч. Что явилось настоящей причиной всего этого, теперь уж никто не скажет. У меня до сих пор стоит в ушах треск разрываемых ниток, которыми были пришиты его погоны. И мой внутренний взор явственно видит этот глазами буравящий Камовникова строй, где нахожусь и я вместе со всеми, но растерянный и смущённый, не понимающий до конца, что происходит. И теперь думаешь, не травмировало ли Камовникова это «действо», и какова его дальнейшая судьба?
Негра Чёрная
Интересно проследить, трансформацию прозвищ одного из подготов по фамилии Осипов. Исходя из того, что «Осип охрип, а Архип осип», Осипов превратился в Архипа. Через некоторое время его стали звать Осипенко, а затем просто Полиной, как звали знаменитую советскую лётчицу, одну из трёх (Гризодубова, Раскова, Осипенко), совершивших в 30-е годы прошлого века беспосадочный перелёт из Москвы на Дальний Восток. Но и на этом чудеса «транссексуальных» превращений не прекратились, и Полина по каким-то неведомым законам превратилась в Поля. Ну а Поль, конечно же, тут же стал Полем Робсоном, или для краткости просто Робсоном. Робсон же, потеряв какую-либо конкретику, стал просто Негром. Так белобрысый, с широким русским лицом и редкими зубами Осипов превратился в Негру Чёрную. – Алё, Негра, ну как, спихнул Вэ Му Де? – (это была аббревиатура одного из специальных предметов – Военно-Морского дела). В ответ следовал жест слегка приподнятой и согнутой в колене правой ноги, как бы отбрасывающей что-то от себя: – Оттолкнулся!
1949 год. Единственная фотография с отцом в домашней обстановке. Мой отец, Усыскин Лев Кузьмич был мастером – краснодеревщиком, строителем деревянных торпедных катеров на пятом судостроительном заводе
«Ишь, ятра по стакану отрастили! Духовное наследие!». Так ругал нас позднее Мишка Костин, офицер–воспитатель.
Санкт-Петербург 2001 год
Фаина Филипповна Усыскина
Краткие воспоминания о муже
С Борисом мы познакомились в 1962 году в Ленинграде, в гостях у моей двоюродной сестры, где я, выпускница Ташкентского мединститута, проводила свои последние каникулы. Звонок в квартиру. Я открываю дверь; на пороге стоит невысокого роста молодой человек, мягко, застенчиво улыбающийся. Первое, на что обратила внимание, – его глаза, удивительно глубокие, немного грустные и очень добрые. У меня оставалась неделя каникул в Ленинграде. Всю эту неделю мы провели вместе. Борис был прекрасным гидом по Ленинграду, много мне рассказывал, знакомил с архитектурой города, а в Эрмитаже был своим человеком. Он замечательно знал произведения великих мастеров, прекрасно разбирался в живописи, что называется, "дышал" этой атмосферой. Оказалось, что он много лет изучал Эрмитаж, занимался в изостудии. Было очень интересно и приятно его слушать, чувствовалась глубина знаний и утончённость натуры этого человека. Но прошла неделя, и мне нужно было уезжать домой. Это был февраль месяц. Что это было? Как говорится, "с первого взгляда" ли, судьба ли, но ровно через две недели я получаю письмо, очень немногословное, с двумя билетами в ленинградскую филармонию. Он знал, что я самозабвенно люблю классическую музыку.
Думаю, что это была судьба
А 8-го марта, как снег на голову, Борис появился в Ташкенте. Скромно и неуверенно он подарил мне букет цветов и коробку духов. Теперь уже мне пришлось быть гидом по Ташкенту. И опять всего неделю. Потом была переписка, телефонные звонки. А в июле, после сдачи государственных экзаменов, я приехала в Ленинград, и мы поженились. Вот так – три недели встреч и сорок лет совместной жизни! Конечно, сорок лет жизни не были столь романтическими, какими были эти недели. Было всё – и радости, и обиды, порой раздражение друг другом. По темпераменту мы были разными, хотя оба эмоциональны. Только я выплёскиваю эмоции свои, а он держал их в себе, скупо расставаясь с ними, проверяя и перепроверяя их, часто страдал из-за этого. Эта черта характера проявлялась и в отношении к тому или иному делу. Я имею в виду быт. Он долго "раскачивался", долго что-либо делал. Но уже делал на совесть, на века, всё грамотно, добротно.
2-го февраля 1965 года у нас родился сын. Мы были счастливы
О его работе не принято было говорить дома, но, думаю, его отношение к делу, его скрупулёзность, честность, бескомпромиссность не всегда адекватно воспринималась на службе, не всем это было по нраву. А конформизм не был присущ Борису. Всё это, конечно, откладывало отпечаток на его здоровье, которое особенно ухудшилось за последние двадцать лет. Инфаркты сменялись инсультами со всеми вытекающими последствиями. Но даже в это время Боря не переставал интересоваться искусством, живописью, архитектурой, историей религии, тренировал память, изучая иврит. В последнее время часто вспоминал годы, проведённые в Подготии, и высшем училище. С большой теплотой вспоминал своих педагогов и товарищей.
И вот наш сын уже взрослый человек!
Мы просто гуляем на свежем воздухе, любуясь зимним пейзажем
На даче за самоваром (он слева). Боря умел хорошо заваривать чай и никому не доверял это важное дело
Борис был умным, честным человеком. Он честно жил, честно служил и работал. Но… Прочитав воспоминания И.Краско, я нашла фразу о том, что человек живёт полной жизнью, если ему удаётся реализовать своё сугубо личное предназначение в этой жизни. Так произошло с ним – он стал замечательным актёром, Народным Артистом. В противном случае у человека наступает ломка – и моральная, и физическая. Мне всю жизнь казалось, что Боря мог бы стать прекрасным искусствоведом, возможно, художником, учёным. Он не реализовал себя в этом. Такое положение его мучило и ломало. Очень жаль.
Санкт-Петербург 2003 год
Лев Усыскин
ЗАМЕТКИ О МОЁМ ОТЦЕ, БОРИСЕ ЛЬВОВИЧЕ УСЫСКИНЕ
Сознаюсь сразу, писать об отце для настоящего сборника мне исключительно сложно. Виной тому боязнь впасть в сентиментальные частности, бесконечно дорогие мне, но не слишком интересные за пределами нашей семьи, и опасения допустить те или иные неточности, затронув морскую тему, ибо знаю, кто будет читать написанное. Всё же рискну проплыть между Сциллой и Харибдой, и да будут снисходительны ко мне те, кто листают эти отрывочные записки. Пожалуй, стоит начать с происхождения нашей, довольно смешной для кого-то, фамилии. Вопреки некоторым, естественным образом возникающим ассоциациям, этимология этой фамилии чисто географическая. Есть такая речка Усыса, приток Западной Двины. Протекает она в Витебской области. Название это вполне в духе топонимики тех мест. В Западную Двину впадают также Усвяча (в расположенном на ней селе Усвяты родился мой прадед), Удвяча, Успол, Ула, Усвейка, Ушача и Ужица. Наши предки расселились в тех местах – вниз по течению Двины, от Торопецкого уезда Псковской губернии до границ теперешней Латвии. В состав России эти территории частично вошли при Иване Грозном, частично в конце 17 века, а частично в результате Северной Войны 1700-1721 годов. Евреи составляли значительную часть тамошнего населения. Как водилось издревле, фамилии имела только знать. Все прочие обзавелись ими, лишь благодаря становлению воинского учёта в Российской Империи в начале 19 века. Тогда-то и появились Усыскины, жившие на реке Усыса. Сегодня людей, носящих эту и близкие к ней фамилии, в мире не так много. Среди наиболее известных носителей этой фамилии надо отметить Мордехая Усышкина – одного из отцов-основателей Израиля, а также похороненного у Кремлёвской стены стратонавта Илью Давидовича Усыскина, исключительно даровитого и перспективного физика, сотрудника А. Ф. Иоффе, погибшего в двадцатитрёхлетнем возрасте, при катастрофе стратостата «Осоавиахим-1» 30 января 1934 года. Этот полёт, как известно, установил новый мировой рекорд высоты – 22 километра. Родной брат моего деда, дядя моего отца, Александр Кузьмич Усыскин, окончив Дзержинку, с 1935 по 1939 год служил в Италии, представляя советскую сторону в ходе постройки на верфи Орландо в Ливорно прославившегося потом в войну лидера эскадренных миноносцев "Ташкент".
Лидер «Ташкент» – быстроходный «Голубой крейсер» Черноморского флота, совершивший много героических походов во время войны
Верхом военно-морской карьеры контр-адмирала Усыскина стала должность заместителя начальника Главного управления кораблестроения Военно-Морского Флота. Пример этой удачно сложившейся военно-морской службы повлиял на выбор отцом жизненного пути. Закончив службу на флоте, Александр Кузьмич двадцать лет работал учёным секретарём, заместителем председателя Совета по гидрофизике Академии Наук СССР, координируя проекты, связанные с обслуживанием нужд ВМФ. Отец служил в Ленинграде с пятьдесят девятого года. Я родился в шестьдесят пятом. Года его службы на Северном флоте дошли до меня лишь фотографиями да отрывочными рассказами. Уже школьником я имел возможность наблюдать, как отец, едва ли не после двадцатилетнего перерыва, взял в руки бильярдный кий. Виртуозно разложенные по лузам шары заставили меня задуматься о том, сколь небогат был в Североморске выбор развлечений для офицеров флота. Вспоминаю коротенькую отцовскую историю про "плановую" гауптвахту («губу»), на которой он сидел в Североморске. По его рассказу, младшие офицеры крейсера по очереди в течение месяца должны были исполнять несвойственную им работу, – что-то вроде расчёта, заказа и выдачи маршрутных проездных документов убывающим в отпуск. Эта повинность практически гарантировала упущения в штатных обязанностях офицера и неизбежное наказание. Настала очередь моего отца сперва рассчитывать и оформлять проездные бумаги, а потом сидеть на гарнизонной «губе». "Было очень скучно. Первое время я сидел в одиночестве," – рассказывал отец. "Вот сижу, смотрю от нечего делать в окно. Вижу, ведут ещё одного офицера – явно сюда. Ну, думаю, слава богу, хоть поговорить будет с кем. Смотрю дальше: у офицера под мышкой толстая книга в добротном переплёте – явно, художественная, так классику издают обычно. Соображаю, – это ещё лучше – вот и тема для общения. Да и почитать можно по очереди. Действительность обманула мои ожидания. Офицер оказался морским врачом. Он вошёл, поздоровался и, не проронив больше ни слова, сел в угол читать свою толстую книгу в чёрном переплёте, обложку которой украшало выведенное фундаментальными золотыми буквами слово: "Туберкулёз". Так получилось, что форму отец надевал нечасто. Он служил в военной приёмке. Действующие правила прямо запрещали тогда посещать военные заводы лицам в военной форме. Отец надевал форму, когда отправлялся в командировки, либо ехал в управление. Помню, что, будучи в форме, отец никогда не садился в общественном транспорте, если рядом имелся хотя бы один стоящий пассажир. Помню, однажды (я был в седьмом или восьмом классе) к нам в гости пришёл Кирилл Иванович Маргарянц. Он сидел с отцом на кухне, они ели селёдку. Я присутствовал тут же и, слушая молча их беседу, впервые спросил себя, похожи ли эти люди на профессиональных военных в моём тогдашнем понимании. Похожи ли их разговоры на разговоры военных, их облик на облик военных? И только потом, много позже до меня дошло, что это и есть нормальный, и даже единственно-возможный способ мировосприятия военного в мирное время: через сосредоточение на многообразии частностей, проблем и радостей сиюминутного быта. Становится ясно, что стоит посвятить защите Родины всю свою жизнь. А постоянная "готовность к прыжку", от которой наяву можно "перегореть", спиться или сойти с ума, свойственна лишь военным с плакатов и букварей сталинских времён. Ни в детстве, ни в юности я не осознавал, что являюсь сыном военного. В институте некоторые наши товарищи происходили из "гарнизонных" семей и, находя между ними что-то общее, я не обнаруживал этого в себе. Целый ряд связанных с отцом фактов, казавшихся мне само-собой разумеющимися, приобрели потом, по мере знакомства с прозой жизни, некий особый смысл. Так, например, показательно, что отец никогда не курил. Полусиротство эвакуации, два закрытых учебных заведения, потом – служба на Севере без какого-либо жилья на берегу – сколь характерно некурение для этих обстоятельств, да и для нашей армии вообще? С отцовскими командировками связано ещё несколько историй моего детства. Одна из них – отцовский рассказ о том, как они на испытаниях вышли в Финский залив часа на четыре (так предполагалось). Уже в море последовал приказ идти в Лиепаю. Отцу стоило огромных усилий высадиться в Таллине, где "подвернулось" судно, идущее в Высоцк, откуда он вернулся домой три дня спустя. Эта заурядная история, создала в моём воображении некий идеал перемещения в пространстве – идеал путешествия как такового, Путешествия с большой буквы, наподобие того, что я предпринял в 1997 году, купив плацкартный билет до Львова и вернувшись два с лишним месяца спустя из Испании. Другая история касается консервов. С испытаний катеров отец всегда привозил "сухой паёк" – жестяные консервные банки трёх типов: два вида внешне неотличимых плоских шайб с сыром и колбасным фаршем и маленькие баночки сгущённого молока. По тем временам, эти консервы представляли значительную ценность. У нас дома они хранились в серванте рядом с праздничным столовым сервизом и расходовались также главным образом по праздникам. И вот, помню, как-то, в отсутствие родителей мне почему-то жутко захотелось этого колбасного фарша. Открывать банки я тогда уже умел, а вот различать – нет. Короче говоря, прежде чем найти нужную, я открыл консервным ножом четырнадцать баночек с сыром – все, что лежали в серванте. Легко представить себе чувства и слова родителей, обнаруживших по возвращении этот «подвиг». С пятьдесят девятого года до увольнения в запас в семьдесят седьмом и после этого – вольнонаемным специалистом – отец служил в военной приёмке. Как я сейчас понимаю, он был исключительно принципиальным контролёром, сторонящимся нюансов политики больших начальников. В раннегорбачёвское время, в короткую эпоху повсеместной госприёмки отец устроился в подразделение этого органа Госстандарта, приписанное к заводу "Электрик". Гражданское предприятие (передовое в своей отрасли!) поразило его дремучестью отношения к качеству продукции. Проработав там лишь несколько месяцев, отец "вошёл в анналы". "Есть мягкие госприемщики, есть жёсткие, и есть Усыскин" – говорили в ОТК завода.
Во время прогулок вдвоём я слушал рассказы отца о службе и жизни
Однажды, отец рассказывал, как в пятьдесят восьмом году крейсер, на котором он служил, совершал переход вокруг Скандинавии из Североморска в Ленинград для ремонта. Разглядывая в бинокль неправдоподобно близкие берега Дании, отец на всю жизнь запомнил "похожие на сказку Андерсена" домики, мосты и башни. Потом, в течение сорока почти лет это была единственная виденная им "заграница". В девяносто шестом он побывал в Израиле. Увидеть Храмовую гору и Стену Плача отец мечтал всю жизнь, и эта мечта исполнилась в отличие от прочих подобного рода. Он так и не увидел любимую им Прагу, не побывал в Италии, не обошёл по периметру Собор Парижской Богоматери. Он многократно рассказывал мне в детстве об этих прекрасных местах и исторических памятниках. Помня его слова, я сам теперь могу рассказать о Праге и Париже уже как очевидец. Так в жизни бывает – дети реализуют неосуществлённые мечты родителей. Однако, это всё же слабое для них утешение, если вдуматься…
Санкт-Петербург 2003 год
Кирилл Маргарянц
Мы дружили с подготских времён
Первый запомнившийся случай: мы уже поступили, переодеты в форму и живём на третьем этаже в спортивном зале. Койки уже одноярусные. Нас много в кубрике, в том числе Боря и я, койки наши рядом. Когда познакомились и на какой почве сошлись, не помню. Однажды пришёл выпускник подготовительного училища, уезжавший в отпуск, а потом в какое-то высшее училище, и хотел разжиться хорошим чемоданом. При этом действовал он весьма нахально. Понравился ему чемодан Бори, и он протянул к нему руки. Хамства я не терпел и кинулся отнимать чемодан, объясняя, что нужно хотя бы найти хозяина и спросить у него разрешение. Нахал не слушал меня, а никто из «молодых» заступиться не захотел. Спасло Борю то, что, как у каждого аккуратного человека, чемодан у него был заперт на ключ. Брать чемодан с вещами наглости у выпускника уже не хватило. Пока он пытался открыть замки, я успел сбегать за Борей. Вдвоём-то мы чемодан отстояли. Попал Боря в третий взвод нашей роты, а я во второй. Видимо, был он ростом несколько меньше меня. Как мы стали «корешить»,. вспоминаются иногда только отдельные эпизоды. Как-то раз был я у него дома на Петроградской стороне, рядом с площадью Льва Толстого. Помню его маму и брата, который тогда был ещё школьником седьмого класса. Был приглашён к столу на фаршированного карпа – национальное еврейское кушание. Тогда я этого не знал и думал, что меня приглашают на жареную рыбу. А поскольку к рыбной еде у меня особого пристрастия не было, да и, наверное, стеснялся, то отказался. До сих пор помню удивление на лице Бори и его мамы: «Как можно отказаться от карпа, да ещё фаршированного?». Полагаю, с Борей мы сблизились ввиду того, что вместе длительное время посещали Эрмитаж по абонементам с группой курсантов. Я был профаном в искусстве, а он хорошо в нём разбирался и много знал. Вместе увлекались фотографией. Сохранились снимки, сделанные Борей в училище и на флотских практиках.
Линкор «Новороссийск» Черноморского флота, на котором мы проходили практику летом 1951 года
На баке в районе первой башни На юте с видом бухты Голландия Боря Петров, Боря Усыскин, Гера Яковлев, Боря Усыскин, Гера Яковлев Кирилл Маргарянц
Среди друзей на ЛК «Новороссийск»
Боря умел делать удачные по композиции снимки, правильно выбирал ракурс и точку съёмки. На его снимках всегда присутствовал второй план и дальняя перспектива. Но примитивная техника, простейшие приёмы обработки плёнки и печатания фотографий, а также низкое качество реактивов не позволяли добиться высокого художественного уровня снимков.
Вот фотография, на которой Боря отобразил не только меня, но и Памятник погибшим кораблям, учебный корабль «Волга», на котором мы проходили штурманскую практику, и даже проходящую в Северной бухте шлюпку под парусом
Практика в Полярном, лето 1951 года. Идём в шлюпке на вёслах. Загребные Боря Усыскин и Боря Петров, а я на руле
Идём в шлюпке под парусом. Боря и я управляем шкотами. С нами в шлюпке Боря Петров, Володя Рыбин и ещё кто-то. Старший на борту капитан 2 ранга Савельев И.И.
Полярный, лето 1951 года. Мы служим вместе на одном большом охотнике
Здесь два Бориса на «бобике» (большом охотнике за подводными лодками)
На тральщике типа АМ американской постройки идём тралить боевые мины у острова Колгуев
Лето 1951 года. Возвращаемся с практики на плавбазе «Тулома». Слева направо первый ряд:Спартак Чихачёв, Володя Рыбин, Кирилл Маргарянц, Боря Букин, Боря Усыскин, Лев Маточкин. Второй ряд:Коля Лапцевич, Коля Кузовников, Джемс Чулков, Толя Балаухин, Жора Вербловский, Гена Бедяев
Североморск, лето 1952 года. Боря – артиллерист и проходит практику на эскадренном миноносце
Он держит «под уздцы» могучую артиллерию эсминца
На проверку погребов артиллерийского боезапаса!
Мичман Усыскин после сдачи государственных экзаменов стажируется на эскадренном миноносце Северного флота
Флотской службой, по-моему, Боря тяготился, особенно корабельной. Мы в то время изредка переписывались. В письмах, насколько я помню, он всегда высказывал недовольство службой на крейсере, где много народу и мало чуткости. Недавно я передал Юре Клубкову присланную мне в то время фотографию Бори. Вид у него не радостный.
На обороте снимка Боря начертал: «Вот дошёл я до жизни какой… Североморск, 28 июня 1955 года. (Это за Полярным кругом)»
1955 год. Крейсер «Железняков», на котором служил Боря на Северном флоте, стоит на рейде Североморска. Снимок сделан скрытно с берега на большом расстоянии
В 1961 году, будучи в отпуске, я с подачи Бори решил тоже стать военпредом и был на беседе в Управлении военной приёмкой на улице Римского-Корсакова. Беседа была для меня вроде бы удачной, я их устраивал, но в конце разговора меня спросили: – «А Вас отпустят с флота?». На этом всё кончилось, так как уйти в то время с подводной лодки «по-доброму» было невозможно. Я-то думал, что приказ не будет согласовываться с моим командованием. В 1979 году в день рождения Бори или днём позже (2 или 3 июня) мы с женой , а также с Лялей и Юрой Клубковыми, были у него на даче, где немного погуляли и даже купались в озере, несмотря на прохладную погоду. Этот день я запомнил хорошо, так как 4 июня 1979 года после возвращения домой я узнал о смерти моего отца. Когда я почти в пенсионном возрасте решил тоже купить машину и поступил на шофёрские курсы, не зная даже, с какой стороны к машине подойти, Боря давал мне «азы» водительского искусства. Для этого мы встречались в пустынном месте, и он терпеливо учил меня трогаться с места. Дальше первой скорости учение не пошло. Уже будучи оба на пенсии, как-то после очередной встречи у «Стерегущего» по предложению Бори зашли на территорию Петропавловской крепости. Долго ходили, смотрели, а Боря всё мне объяснял. Он лучше меня всё знал и помнил. Долго стояли у только что установленной статуи Петра 1 работы Михаила Шемякина. Памятник мне не понравился, о чём я прямо и безапелляционно тут же и заявил. Боря же не был столь категоричен, больше молчал, а оценки давал со знанием дела. Ушёл Боря на пенсию значительно раньше меня и работал штатским госприёмщиком на заводе. После 1985 года, когда я уже работал в Академии, мы часто встречались в обеденный перерыв в садике, расположенном на одинаковом расстоянии от моей и его работы. Гуляли и общались. Разговоры были долгие, больше о жизни и политике, но думали мы всегда почему-то по-разному, к общему знаменателю и консенсусу никогда не приходили. Был он скрытен, молчалив, но в это время я узнал его значительно больше. Несколько раз был у Бори дома. Пили мало, но закуска всегда была хорошая, ибо его жена Фая прекрасно готовила. Работая на заводе сварочной аппаратуры, Боря приобрёл по себестоимости электросварочный аппарат. Мой сын в то время строил в Лигове мощный ангар, для чего нужны были сварочные работы. Взяли мы аппарат у Бори, использовали его «на полную катушку» и даже через Борю приобретали электроды. Держали мы аппарат очень долго и никак не могли его отдать. Боря в это время тяжело болел, поэтому меня не торопил. В последние годы жизни Бори встречались мы, в основном, в больницах, где он часто находился. Изредка встречались на прогулках, согласованных заранее по телефону о месте и времени. Внешний вид у Бори был всегда, на мой взгляд, приличный, но всё равно я боялся получить страшное известие. Из нашего общения я пришёл к некоторым мыслям и выводам. Боря считал себя обиженным советской властью. Получив специальность артиллериста, он вынужден был переучиваться на специалиста радиотехнической службы. Он полагал, что с его знаниями и опытом заслуживал большего и в должности, и в воинском звании, но его не продвигали. Однако, надо сказать, что служба в Ленинграде с лейтенантского уровня – это подарок судьбы, и не каждому так везёт. Дядей–адмиралом, заместителем начальника ГУКа, Боря гордился. Тот, выйдя в отставку , был советником у Президента Академии Наук СССР А.П. Александрова и написал книгу о развитии ядерной энергетики. Боря с удовлетворением встретил изменения в нашем государстве в 90-х годах прошлого века. Он говорил об этом неоднократно. Но и эта власть не оправдала его надежд. По словам Бори, он постоянно вступал в конфликт с начальством, борясь за то, чтобы поставляемая промышленностью техника была качественной и отвечала установленным требованиям. Думаю, что Боря считал себя ущемлённым, да и не всегда ему просто по-человечески везло. Отдельные неприятности способствовали развитию его болезней.
Лето 2000 года. У Бори на даче за самоваром (он слева!)
Боря хлопотал о том, чтобы его признали участником подразделений особого риска, поскольку крейсер «Железняков», на котором он служил в молодости, принимал участие в обеспечении испытаний ядерного оружия на Новой Земле. На крейсере даже проводилась дезактивация всех внешних поверхностей и помещений. Но оказалось, что крейсер не числился в списке кораблей, участвовавших в испытаниях. Поэтому Боря получил отказ. Иногда я злился на Борю. Однажды, например, уже будучи тяжело больным, он, ничего мне не сказав, уехал в конце лета в жаркий Израиль. А я в течение двух недель разыскивал его, волнуясь за его здоровье. На мой взгляд, ему бесспорно повезло с женой и сыном. Они живут относительно материально обеспеченными и хранят память о Боре.
Санкт-Петербург 2003 год
Подписи к фотографиям – то, что на обороте
1. я – с каторги. Июнь-Июль-Август 1950 года 2. Из Архангельска в Мурманск. Август 1951. Северный флот 3. – 4. – 5. – 6. – 7. Батуми 8. Чёрное море. Август 1950 г. Гангстер- Яшка 9. Севастополь. август 1950. Чих (Чишка), памятник затонувшим кораблям и Хуан Себастьян Елькано Juan Sebastian Elcano 10. – 11. – 12. Кирюха 13. Батуми. «Волга». 12.08.50 14. «Новороссийск» 15. Фокусник-Бориска. Июнь-июль-август 1950 года. л.к. «Новороссийск». 16. на юте 17. «Волга» 18. – 19. – 20. – 21. – 22. – 23. – 24. – 25. – 26. – 27. – 28. – 29. – 30. – 31. – 32. – 33. Первые минуты в Севастополе 34. – 35. – 36. – 37. У башни главного калибра 38. «Новороссийск» 39. ПРОЧТИ, ЗАПОМНИ! Старший подразделения получи ящик для документов у инструктора. Не оставляйте в карманах спички, деньги и документы, сдайте их своему старшему. В раздевальне возьми плечико с тележки, аккуратно развесь на него свою одежду и повесь на тележку. Портянки, чулки, носки положи на сетку внизу тележки. Обувь свяжи ремнём и положи на носилки, которые стоят около тележки. Запомни номер тележки, на которой висит твоя одежда. Не бери ничего с собой в душевую. Мыло и мочалку получи при входе в душевую. В душевой слушай звонки, чтобы успеть вымыться вовремя: один звонок – пуск воды; два звонка – предупредительная – кончай намыливаться; три звонка – закрывают воду. Выходи из душевой в сторону противоположную входу, мочалку положи в ящик у выхода. Выходи в одевальню только по вызову инструктора. У места получения обуви жди тележку с одеждой. Не прикасайся к тележке в одевальне – она горячая. Медицинскую помощь получите в одевальне. Во время пользования санпропускником не шуми и будь вежлив в обращении с обслуживающим персоналом. (текст с фотографии) 40. – 41. – 42. – 43. – 44. – 45. Бушприт “Учебы” У стенки в Л-де. 46. Мытьё бортов на “Jiulio Cesare” (“Юлий Цезарь”), ныне “Новороссийск”. Август 1950 года. 47. – 48. – 49. – 50. Севастополь. На шлюпочной базе «Новороссийск» Июнь-июль-август 1950 год 51. – 52. – 53. – 54. – 55. – 56. Первая жертва. Филь с шишкой на лбу. 57. – 58. Борису от Владика. «Поднимем стаканы, содвинем их разом Да здравствуют ВМУЗы да скроется (зачёркнуто «здравствует») разум!» 59. – 60. – 61. – 62. – 63. – 64. Освенцим. Опознанный труп Моржа. 65. – 66. – 67. – 68. – 69. – 70. – 71. Шхуна «Учеба» 72. Помни, как с этим рылом рубал за одним столом. Ж.Юдин. 17.11.52 г. 73. – 74. На память Борису от Кира Лемзенко 22.01.53 г. 75. – 76. – 77. – 78. – 79. – 80. – 81. – 82. – |