



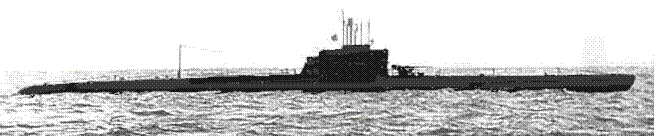
© Клубков Ю. М. 1997 год
|
|
  |
 |
|
|
© Клубков Ю. М. 1997 год |
|||
|
Лапцевич Николай Васильевич родился и вырос в глухой белорусской деревне Веркалы, однако в учении проявил исключительные усердие и способности. ЛВМПУ он закончил с золотой медалью, а в 1-м Балтийском ВВМУ был сталинским стипендиатом. Его фамилия до сих пор красуется золотыми буквами на мраморной доске в фойе клуба нашего училища вместе с фамилиями других талантливых наших парней. Несмотря на столь впечатляющий старт, дальнейшая служба проходила сложно, так как приобретённая им специальность классического ствольного артиллериста заканчивала своё существование на флоте. Ему пришлось трижды кардинально менять сферу деятельности, каждый раз начиная заново. Начав офицерскую службу преподавателем школы комендоров учебного отряда, затем переучивался на Высших Офицерских классах. Стал ракетчиком и продолжил службу на главной ракетно – технической базе Тихоокеанского флота, закончив службу на ней в должности заместителя командира части. В 1969 году переведён служить в Ленинград в НИИ вооружения ВМФ, где со временем был назначен руководителем научно – исследовательской группы по разработке новой темы. За период до 1986 года участвовал в проведении ряда научно-исследовательских работ по ракетной тематике, будучи большей частью их ответственным исполнителем. Непосредственно участвовал в создании и испытаниях комплексов РО «Базальт», «Вулкан», «Гранит». Является автором проекта «Наставления по обеспечению боевых действий» (НОБД-83). Имеет ряд изобретений. В 1983 году за участие в создании комплекса РО «Гранит» награждён орденом «За службу Родине» 3 степени.
НИКОЛАЙ ЛАПЦЕВИЧ
Точка отсчЁта
В с т у п л е н и е
Начиная любые, даже самые беглые заметки о прожитой жизни, неизбежно задумываешься о своих предках. О той уходящей в глубь веков чреде поколений, в которой твоя жизнь является вершиной и одновременно кирпичиком для идущих после. Мне кажется, не требует пространных доказательств утверждение, что знание истории своего рода, не обязательно знатного или широко известного именами предков, а самого рядового, о котором осведомлены только близкие да соседи, способно служить человеку мощным источником укрепления его душевных сил, повышения его чувства достоинства и самоуважения, а в более широком плане является одной из основ формирования полноценного гражданина своего Отечества. Но прежде именно неграмотность делала человека немым для грядущих поколений, лишала его возможности оставить о себе и своих близких долговременную память. Поколение за поколением бесследно исчезали они в океане вечности, унося с собой свой мир и доставшиеся на их жизни частицы истории. Сейчас же, в эпоху сплошной грамотности, давать этому печальному процессу продолжаться и далее, мне представляется безнравственным. Как по отношению к памяти предков, чьим жизням ты обязан появлением в этом лучшем из миров, так и по отношению к своим потомкам, обязанным тебе тем же. Сознание этого и побуждает меня, одного из представителей практически первого в нашем роду грамотного поколения, приступить к настоящим запискам. Рассказывая в них, по мере своего умения кратко, о себе и своих близких, я постараюсь записать и то, что известно мне о родных из старших поколений. Кажется, это единственный способ вернуть их из забвения. Буду стараться оставить на бумаге пусть сухой и бледный, но хотя бы контурно-достоверный отпечаток и своего времени, и тех, по словам Н.Н. Берберовой, «драгоценных клочьев прошлого, которые живут только в нас и навсегда исчезают вместе с нами». Льщу себя надеждой, что, если у кого-нибудь из моих детей или внуков возникнет аналогичная потребность, то мои записки послужат ему хотя бы в качестве ТОЧКИ ОТСЧЕТА на бесконечной оси времени. Для него в первую очередь я их и пишу.
Д е т с т в о
Д е р е в н я
Подрубленные корни
Словом «корни», пожалуй, наиболее точно и образно выражается связь человека с его «малой родиной» и своими предками. Если под «малой родиной» понимать не только место, где человек появился на свет, но и где он начал осознавать себя и формироваться как личность, то у меня их две: небольшая белорусская деревня Веркалы в Минской области и часть Дзержинского района (вошедшего ныне в Центральный) города Ленинграда (Санкт-Петербурга), ограниченная улицами Шпалерной (Войнова), Салтыкова-Щедрина (Кирочная), а так же проспектами Литейным и Суворовским, центром которой является дом №11 по улице Каляева (Захарьевская). Оба эти места с одинаковым правом располагаются в том заветном уголке моей души, куда постепенно оседает память о самых дорогих местах и близких людях, о том, что было в жизни, вспоминая которые испытываешь щемящую и светлую грусть. В соответствии с моим метрическим свидетельством деревня Веркалы считается местом, а 9 января 1931 года – датой моего рождения. Однако этот документ не совсем точен. По словам мамы, я родился в конце 1930 года на Рождество (видимо, имеется в виду католическое Рождество), и родители находились в это время в городе Слуцке. Отец из соображений отсрочки моего будущего призыва в армию зарегистрировал меня 1931-м годом. Обстоятельства сложились так, что к моменту регистрации семья переехала из Слуцка в свою родную деревню Веркалы. Мой отец, Лапцевич Василий Казимирович, 1897 года рождения, и мать, Котлинская Софья Тарасовна, 1894 года рождения, принадлежали ко второму поколению крестьян, не знавших крепостного права. Их родители, мои дедушки и бабушки, – Лапцевичи Казимир и Фёкла и Котлинские Тарас и Устинья (к сожалению, их отчества мне неизвестны) были первым поколением «свободных» крестьян и последними из моих предков, занимавшихся крестьянским трудом всю свою жизнь. Они были неграмотны, но уже своим детям (прежде всего старшей мужской их части) стремились дать образование. И в начале ХХ века в нашем роду появились первый учитель (старший из братьев отца Моисей Казимирович Лапцевич), а в ходе первой мировой войны и первые офицеры – Фёдор Казимирович Лапцевич и Кузьма Тарасович Котлинский.
Казимир Лапцевич, белорусский крестьянин. Снимок сделан в 1928 году в городе Ромны
Поколение моих родителей можно назвать переходным в буквальном смысле слова. Практически все мои дяди и тёти, кто уцелел в ходе бурных событий первой четверти 20-го века, одни в молодом возрасте, другие, как мои родители, к середине своей жизни, покончили с крестьянским трудом и обосновались в городах. О молодых годах своих родителей я, к сожалению, знаю очень мало. Отец в гражданскую войну служил в Красной Армии. Об этом свидетельствует фотография, открывающая фотолетопись нашей семьи. У мамы первый брак был коротким и закончился драмой. Не желая жить с мужем из-за его тяжёлого характера, она ушла к родителям. Этот поступок стоил ей шрама на голове от скользящего удара топором, с помощью которого муж пытался заставить её вернуться.
Смоленск, 1919 год. В армии отец (он справа) служил пулемётчиком.
На это поколение выпала кровавая и горькая доля пережить трагедию разрушения всего «до основания» и построения «основ социализма». На своих плечах оно вынесло две мировых войны, три революции, гражданскую войну, террор, коллективизацию, раскулачивание. В истории России не найти другого периода, который бы так жестоко и бесчеловечно переворотил и переломал всю толщу народа. К сожалению, судьбы семей Лапцевичей и Котлинских убедительно это подтверждают. У отца было четверо братьев: Моисей (1880 г.р.), Гавриил (1886 г.р.), Федор (1892 г.р.) и Михаил (1904 г.р.) и две сестры: Евдокия (1883 г.р.) и Домна (1895 г.р.). У мамы – двое братьев (Кузьма и Сергей) и три сестры (Антонина, Агриппина и Любовь). Приведу далее список, который скажет сам за себя – Кузьма Тарасович Котлинский – пропал без вести на полях Гражданской войны. Воевал на стороне белых (по слухам в Добровольческой армии) и с 1918 года о нём ничего не известно. – Агриппина Тарасовна Кульпанович (фамилия по мужу) – её семья была раскулачена в начале 30-х годов. Её муж Мирон, бывший моряк и участник гражданской войны на стороне красных, оказал при раскулачивании физическое сопротивление и был сослан на Север, где через несколько лет умер. Тётя Регина одна в беспросветной колхозной нищете поднимала пятерых детей. – Антонина Тарасовна Тарасевич (фамилия по мужу) умерла в 1943 году, вскоре после убийства её мужа Иллариона, который, спасая семью от голода, попытался вернуть реквизированное «партизанами» мясо. – Любовь Тарасовна Соловей (фамилия по мужу) расстреляна в 1942 году вместе со своим мужем Константином. Расправу над ними совершила группа так называемых «партизан» как акт мести отцу Константина Соловья. – Фёдор Казимирович Лапцевич был арестован УКГБ города Ленинграда в сентябре 1938 года по сфабрикованному обвинению. О его деле я расскажу в отдельной главе. – Гавриил Казимирович Лапцевич умер от истощения в 1942 году в Свердловске, куда он был эвакуирован из блокадного Ленинграда – Василий Казимирович Лапцевич, мой отец, рядовой 103 стрелкового полка 85-ой стрелковой дивизии, который, как указано в извещении, «проявив геройство и мужество, убит 30 октября 1942 года под Ленинградом и захоронен в районе Шереметьевского парка». Таким образом, из четырёх братьев Лапцевичей (пятый, самый старший брат отца Моисей умер до революции), встретивших 1941 год, двое погибли, один незадолго перед этим был репрессирован. Из четверых сестёр Котлинских две погибли в войну вместе с мужьями, другие две остались вдовами. В семьях Лапцевичей и Котлинских поколение моих родителей насчитывало семь мужчин и шесть женщин. После войны 1941-1945 годов осталось трое мужчин и четверо женщин. Пятеро погибших (как и мужья троих маминых сестёр) ушли из жизни в цветущем зрелом возрасте, оставив полтора десятка сирот. И наверно самое трагичное то, что из всего этого скорбного списка смерть только одного человека – моего отца, погибшего при защите Родины, можно считать в какой-то мере оправданной. Все остальные пали напрасными жертвами произвола и беззакония. В этом факте, как в капле воды, отразилась жестокость и бессмысленность страданий, постигших российский народ в первой половине 20-го века! Место следующего поколения в истории России, пожалуй, не менее уникально: это первое и единственное поколение, прошедшее практически весь свой жизненный путь в условиях социализма. Вместе с родителями оно пережило коллективизацию, бедствовало, страдало и боролось в меру сил в Отечественную войну, терпело и преодолевало послевоенную разруху. Потом, не зная другой правды, кроме вколоченной в наши головы пропагандистской машиной КПСС, оно истово строило «светлое будущее». Теперь мы пожинаем плоды своих трудов и стремимся уразуметь новую правду. Нам повезло, что практически никому из нас не пришлось непосредственно участвовать в войнах. Возможно, это и есть главный результат усилий нашего поколения. Кроме той, Великой, оставившей и на нашем поколении свою кровавую отметину. Приведу также имена погибших в Великую Отечественную войну моих двоюродных братьев и сестёр. Перед войной всего их было 17 человек). – Антонина Мироновна Кульпанович. Дочь раскулаченных родителей, в войну она стала партизанской связной и была расстреляна немцами. – Игнат Лапцевич (сын сестры отца Евдокии), призванный в армию в первые дни войны, пропал без вести. – Петр Константинович Гостило (сын сестры отца Домны), умер в блокаду в 1942 году в Ленинграде. – Антон Михайлович Лапцевич, умер в блокаду в 1942 году в Ленинграде. – Евгения Гаврииловна Лапцевич, эвакуирована из Ленинграда вместе с отцом и после его смерти покончила с собой. В этот список следует, наверно, включить и моего старшего брата Фёдора 1923 года рождения, прошедшего войну авиационным техником от Сталинграда до Берлина. Перенесенная им на ногах в военные годы жестокая ангина поразила оба сердечных клапана. После войны болезнь прогрессировала, и к 1959-му году брат едва мог ходить. Операция на сердце в клинике знаменитого в те годы военного хирурга Куприянова окончилась смертью брата 30 ноября 1959 года. Два списка… Тринадцать имён, упомянуть здесь каждое из которых я посчитал своим долгом. Надеюсь, меня не будут строго судить за перегруженность этой главы собственными именами. Не моя вина, что число безвременно и мученически погибших моих близких только в двух поколениях двух семей оказалось столь большим. В поколении наших родителей погиб почти каждый второй, в нашем поколении – почти каждый третий. Таково было выпавшее на их и на нашу долю время. Может быть, мысленно примерив на себя судьбу любого из них хотя бы на несколько мгновений, мы ещё раз задумаемся о том, зачем и кому нужны были столь безмерные жертвы? Есть ли на земле такие цели и такие люди, которые стоят жизни хотя бы одного человека? Тем более, десятков миллионов, как это было не так уж давно! А ведь желающих подобным образом распорядиться чужими жизнями что-то не становится меньше.
Веркалы
Осознавать себя я начал в конце 1935 года. Прошедшее с момента моего рождения четырёхлетие было весьма бурным и тяжелым для нашей семьи. В него вместились события, над описанием подобных которым трудилось немало писательских талантов: это и организация в деревне колхоза (нарекли его громким именем «Победа»), и раскулачивание несогласных, а также семейная катастрофа, какой был пожар и гибель до тла построенного отцом и подготовленного к заселению дома, и вызванный этим переезд в чужой временно пустующий дом. Однако, запомнившиеся мне первые ощущения об окружающем мире были вполне благоприятны. Да и вряд ли может быть иначе в семье, где родители по-человечески относятся к детям. А я был в семье самым младшим и, естественно, баловнем, или по-белорусски «пестуном». Попытаюсь описать самую первую запавшую в память картину. Я вижу себя сидящим на кровати в большой (мне так казалось) слабоосвещённой комнате. Кровать стоит вдоль левой от входа боковой стены. Одна ее спинка упирается в русскую печь, другая в кровать, стоящую вдоль стены против входа. Кровати из струганных досок, неширокие. Печка занимает почти четвертую часть комнаты, её топка расположена около входной двери. Печка топится, около нее, освещённая мерцающим из топки пламенем, возится мама. Я весь полон безотчетным ожиданием и, как оказывается, не зря: широко распахивается дверь и вместе с ворвавшимися из сеней клубами морозного пара входит в комнату одетый по-зимнему папа (подпоясанный кушаком кожух, папаха, ватные штаны, валенки). Он весел, энергичен. Пощекотав меня усами, роется в висящей на плече «торбе» и подаёт мне кусок черного хлеба: – «Это тебе зайчик из леса прислал». Отец вернулся после недельной работы на лесозаготовках. Я вначале удивляюсь сходству «заячьего хлеба» с обычным, но, ощутив во рту непривычную холодную упругость замороженной краюхи, верю, что это действительно «гостинец» от зайчика. Далее я опускаю хранящиеся в моей памяти картины знакомства с окружающим, большим, непонятным, но очень влекущим миром. Они, я думаю, во многом общие для всех детей, начинающих постепенно воспринимать и осознавать себя, близких, дом, двор, небо, солнце, облака, деревья, растущую на земле и плавающую в воде живность, – всё, что попадается ребёнку на глаза и поражает его как своим видом, так и радостью узнавания. Кратко упомяну отдельные запавшие в память эпизоды. Моего отца по итогам зимней заготовки леса наградили килограммом сахарного песка и … плакатом. Его стоит описать. На большом (около 1,5х0,75 м) цветном листе был изображён буржуй с жабьим лицом, толстой сигарой во рту и дымящейся бомбой в руке. Туловище буржуя в виде змеиных колец обвивало земной шар. Справа на плакате высился пролетарий, мужественное лицо которого не оставляло сомнений в благородстве его помыслов: могучей рукой он сжимал буржуину горло. Плакат был водружен отцом над кроватью в виде ковра. Поскольку в нашей деревне в то время не было ни радио, ни газет (электричества тоже), то этот плакат можно считать первым соприкосновением моего сознания с идеями коммунизма. И, судя по моему тогдашнему впечатлению, плакат, несмотря на свою примитивность, а, может быть, благодаря ей, достигал своей цели, закладывая в моём подсознании и постепенно делая привычным чувство антипатии к кровожадному буржую и желание подражать благородному пролетарию. Другая часть отцовской премии использовалась с большей для нас пользой: иногда мама насыпала на стол сестренке Лине и мне по небольшому холмику сахара, и мы слизывали его, максимально растягивая удовольствие. К лету 1936 года относится сделанный заезжим фотографом общий снимок всей нашей семьи: отец (39 лет), мама (42 года), Фёдор (13 лет), Ольга (9 лет), Лилина (7 лет) и я (5 лет). Снимок этот уникальный, ибо больше нашей семье в полном составе фотографироваться не довелось.
Наша семья в полном составе: мама Софья Тарасовна, отец Василий Казимирович и дети (по старшинству): Фёдор, Ольга, Лилина и Николай. Деревня Веркалы, лето 1936 года
Конец лета 1936 года запомнился картиной разрушения нашей деревенской церкви. Церковь стояла на въезде в деревню и давно пустовала. Деревенским активистам потребовалось приложить немало усилий, чтобы разрушить добротную постройку. В душе осталось чувство безотчётного страха, словно при встрече с чем-то непонятным и зловещим. Начало следующего 1937 года ознаменовалось судьбоносным для нашей семьи поступком отца: с большим трудом он вышел из колхоза, получил паспорт и уехал искать счастье в Ленинград. Там уже довольно давно жили его старшие братья Гавриил и Фёдор. После того, как сгорел наш дом, а земля и живность были сданы в колхоз, шаг отца был закономерен, так как экономическая связь нашей семьи с деревней оборвалась. Картина отъезда отца и сейчас стоит у меня перед глазами: та же описанная мной выше комната, освещённая тускло на этот раз керосиновой лампой. Я лежу на кровати и, разбуженный отцом, с трудом воспринимаю окружающее. Бросается в глаза и настораживает грустный вид мамы. Отец нежно целует меня и кладёт рядом на подушку предмет моих давних мечтаний – ручку для письма распространенной тогда конструкции в виде трубки длиной около 12 см, в которую с обеих сторон вставлялись более короткие трубочки: одна с пером, другая с карандашом. В собранном виде и перо, и карандаш находились внутри трубки. «Будешь писать мне письма?» – спрашивает папа. Я киваю ему в ответ и начинаю понимать, что он уезжает. По приезде в Ленинград отец поселился у своего брата Фёдора, имевшего комнату в доме № 36 по улице Чайковского, и устроился работать дворником этого же дома.
Три брата Лапцевичи слева направо: Василий Казимирович, Гавриил Казимирович и Фёдор Казимирович. Ленинград, 1937 год
Своё обещание отцу я смог выполнить довольно скоро. В течение весны 1937 года, наблюдая за готовившими уроки сёстрами и с их помощью, я научился читать и писать. Первая прочитанная мной книжка называлась по-белорусски «Мiколка-паравоз» (к сожалению, не помню автора). В последующем запомнились мне книжки о пограничнике Карацупе и его собаке Индусе, повесть «Пакет», а также небольшая книжка о подвигах Клима Ворошилова и Семёна Буденного в 1-ой Конной Армии (по-моему, эти книжки были на русском языке). Всё написанное я воспринимал в том возрасте буквально, как имевшее место быть на самом деле. Книги и их герои будили воображение, западали в душу, появлялось желание быть смелым, сильным, благородным. Пожалуй, к весне 1937 года относится и последний запомнившийся мне визит к нам деда Казимира. Он был выше среднего роста, сухощавый, с худым лицом, на котором выделялись хрящеватый с горбинкой нос и седые небольшие усы. Он что-то сердито и веско говорил маме, расхаживая по комнате в расстёгнутом кожухе. Мама сидела в углу и молчала, я сидел в другом углу, переживал за маму и удивлялся, почему она, вполне способная на точный и резкий ответ, сейчас так покорно слушает деда. Ко мне дед Казимир не выразил особого интереса, кроме разве нескольких мимолётных взглядов, брошенных во время своего монолога. Вообще, дедушки и бабушки не оказывали мне, как, наверно, и другим своим внукам, особого внимания. Не могу припомнить, например, чтобы кто-то из них меня приласкал. Правда, и попытки оттрепать меня имели место только со стороны бабушки Устиньи. Бабушка Фёкла умерла, кажется, ещё до моего рождения. Однако, семьям своих детей они оказывали постоянную поддержку, особенно тем из них, у кого дела шли похуже. С дедом Казимиром в его не слишком просторной избе жили его дочь, незамужняя Евдокия с сыном Игнатом, а также сын Михаил с женой Домной (тезкой старшей сестры отца), их сыновьями Антоном и Александром и дочерью Майей. Так что общения с внуками деду хватало и без меня через край. Судя по разговорам взрослых, дед обходился со своими домочадцами властно и круто. В целом же у меня осталось впечатление о деде Казимире как о человеке взрывном и сварливом, но способном на неординарные поступки, мнение которого имело в семье и в деревне достаточный вес. Летом 1937 года дед Казимир умер (думаю в возрасте около 70-ти лет). Его похороны, первые в моей жизни, я запомнил только как зрелище, осознать это, как утрату близкого человека, я ещё не был способен. Дедушка Тарас и бабушка Устинья через маму принимали в жизни нашей семьи более глубокое участие. Этому, наверно, способствовало и то обстоятельство, что их дом был рядом с нашим, который мы временно занимали. Дом деда Тараса располагался в середине деревни и был сравнительно недавней постройки. По деревенским меркам – видный и просторный. Правда, как и все деревенские дома-пятистенки, состоял из комнаты и сеней. Это, кажется, был единственный в деревне дом, расположенный к деревенской улице не торцом, а длинной боковой стеной. С улицы в дом вело высокое (может быть, только по моим тогдашним меркам) крыльцо. Помню, во время проходивших летом военных маневров в доме деда разместились на постой командиры, что, наверно, льстило хозяевам. В сенях, за лёгкой перегородкой жила тётя Люба с мужем Константином. У этой пары долго не было детей, но в 1939 году родилась, наконец, дочь Вера, а перед самой войной и сын Константин. Дедушке Тарасу в описываемое время было немногим за 60. Это был среднего роста плотный мужик, сдержанный и молчаливый. Сохранилось в памяти его смуглое круглое лицо, густые черные с лёгкой проседью волосы, широкие дуги бровей над небольшими синими глазами, нос картошкой, прокуренные усы. Лицо деда было некрасивым, но запоминающимся, и его характерные черты без труда угадывались в лицах сыновей и дочерей (пожалуй, и в моём теперешнем тоже). Я его не видел праздным никогда. Он был постоянно в работе, делая своё дело сосредоточенно и основательно, с неизменной самокруткой во рту. Похоже, дед хорошо владел всеми видами ремёсел, составляющих непростой крестьянский труд и обеспечивающих жизнь большой семьи в условиях почти натурального хозяйства. Мне хорошо запомнилось, как свободно и уверенно управлял дед Тарас работой «женской бригады», состоящей из бабушки, мамы и тёти Любы, по разделке туши и последующей обработке мяса выкормленного мамой и забитого дедом кабана. При этом сам он трудился за троих. Бабушка Устинья помнится мне худощавой, выше среднего роста, несколько сутуловатой, очень подвижной женщиной. Как ни странно, лицо бабушки совсем не сохранилось в моей памяти. Хотя именно она уделяла мне сравнительно много внимания, пытаясь, правда без успеха, приобщить к полезной деятельности. Её поручения присмотреть за маленькими детьми тёти Любы и другие очень быстро рождали во мне скуку, и я под любым благовидным предлогом (чаще, якобы, по нужде) убегал от неё при первой возможности. Скрывшись с бабушкиных глаз, я тут же забывал о ней, её поручении и выдуманном мной предлоге. Забывал настолько, что мог вскоре опять появиться в поле её зрения, не чувствуя за собой никакой вины. Рассерженная моим вероломством, бабушка цепко хватала меня за ухо. Следовавшая за этим трёпка была не очень болезненной и, главное, не обидной, так что о ней я помнил не дольше, чем о бабушкином поручении. Бабушка, по-моему, была незлопамятна и отходчива. Дед Тарас и бабушка Устинья жили в согласии, их характеры хорошо дополняли друг друга. Оба крепкие здоровьем, трудолюбивые, здравомыслящие, они ещё перед самой войной могли не только содержать себя и вести своё хозяйство, но и оказывать помощь семьям своих дочерей. Сын Кузьма, как я уже писал, пропал в гражданскую. Другой сын, Сергей, служил в Красной Армии с момента ее создания. Отечественную войну он встретил в Харькове в звании полковника. Война обошлась с ними очень круто. Бабушка Устинья, пережив трагическую гибель дочерей Любы и Антонины и их мужей, умерла сразу после войны. Дед Тарас долго болел и ушёл из жизни в начале 50-х годов. Возвращаюсь в 1937 год. Летом этого года около места, где была церковь, построили большое (по деревенским меркам) деревянное одноэтажное здание школы. До этого под школу использовали кирпичный двухэтажный дом бывших хозяев этих мест помещиков Шестовских, но он пришёл в ветхость. Новая школа могла принять ребят только первых четырёх классов. Учащиеся 5-х – 7-х классов ходили в школу в расположенный в семи километрах от Веркал посёлок Задащенье. Ближайшая средняя школа была за 10 километров в «местечке» Шацке. Так на польский манер в Белоруссии назывались теперешние «посёлки городского типа». Отмечу ещё одну хорошо запомнившуюся мне дату – 12 декабря 1937 года – день первых выборов в Верховный Совет СССР по «Сталинской конституции». День был настоящий зимний – ясный, солнечный с приличным морозцем. Рано утром мама со мной на колхозной санной упряжке ездила в лес за дровами. Потом вместе пошли на избирательный участок, организованный в новой школе. Там я впервые с некоторым удивлением ощутил, что, оказывается, и взрослые могут испытывать уже ставшие известными и мне чувства смущения и неуверенности. В непривычной официальной обстановке хорошо знакомые мне простецкие дяди и тёти держались скованно, пряча робость под показной солидностью. Мне кажется, тогда крестьяне всерьёз надеялись, что эти выборы изменят как-то их жизнь к лучшему. Вечером после голосования в коридоре школы с помощью кинопередвижки нам показали хронику на сельскую тему и кинофильм «Тринадцать». Не только я, но, похоже, и подавляющее большинство односельчан тогда впервые оказались в роли кинозрителей. В мае 1938 года отец приехал в отпуск. По пути он навестил в Минске Федю, который учился там на первом курсе Педагогического техникума. Сохранилась фотография, запечатлевшая их встречу.
Минск, 1938 год. Мой отец и старший брат Фёдор
День приезда отца был известен заранее, и я с двоюродным братом Сашей вышел его встречать. По дороге прошли далеко навстречу, уже начался лес. Отец всё не ехал. Саша предложил пока пройтись по лесу. Несмотря на мелькнувшее у меня опасение, что могу пропустить отца, я согласился, собираясь гулять у самой дороги. Однако, постепенно мы углубились в лес, набрели на заброшенную смолокурню, увлеклись её осмотром и опомнились, когда стало темнеть. Бросились домой, там уже сидел, окружённый домочадцами отец. Даже полученные тут же конфеты, которые, кстати, я увидел в первый раз, не могли сгладить моё огорчение от допущенного промаха. Это первый из запомнившихся эпизодов, в которых я не выполнил задуманного из-за проявленной сговорчивости, и затем глубоко сожалел об этом. После краткого пребывания дома отец вернулся в Ленинград, а к нам оттуда приехали на летние каникулы дети дяди Гавриила. Евгения и Анатолий были ровесниками соответственно моих брата Феди и сестры Ольги. Подробнее о них – позже, а пока отмечу два момента. Первый, несколько курьёзный, но заслуживает упоминания как характеристика уровня гигиены тогдашнего деревенского быта: только к приезду городских гостей в нашем дворе было оборудовано специальное отхожее место. До этого все мы как-то обходились без туалета. Правда, он был в соседнем дворе у бабушки с дедушкой, но лично я не помню, чтобы когда-нибудь мне приходилось им пользоваться. Второй момент касается моего впечатления от первого соприкосновения с русским языком и детьми из другой, городской среды. Надо сказать, что правильный русский язык по своей фонетике гораздо благозвучнее белорусского. Сначала белорусу эта благозвучность кажется даже нарочитой, но по мере привыкания, а тем более, овладения русским языком, что белорусу не составляет особого труда, если не считать акцента, уже белорусское звучание многих, одинаковых по смыслу слов начинает казаться грубым, даже исковерканным (знаменитое белорусское «трапка» вместо «тряпка»). Возможно поэтому многие белорусы, овладев русским языком, начинают использовать его даже в бытовом общении столь широко (особенно в городах и среди интеллигенции), что в Белоруссии не раз на полном серьёзе ставился и обсуждался вопрос о замене родного языка на русский. Так вот, поразивший мой слух русский язык, непривычно красивая (по деревенским представлениям) одежда моих городских родичей, оказавшихся, кстати сказать, очень дружелюбными и незаносчивыми, вызвали у меня первые отголоски чувства, которое знакомо, наверно, каждому, кто вырос в семье с низким социальным статусом. Поскольку в последующем это чувство угнездилось в моём сознании, отразилось в характере и, следовательно, сказалось на моей судьбе в целом, остановлюсь на нём более подробно. Упомянутое чувство (или точнее, комплекс чувств), как мне кажется, шире и глубже известного «комплекса неполноценности», так как включает в себя не только психологическую, но и социальную компоненту. Правильнее, пожалуй, назвать его «комплексом второсортности». Этот комплекс, скорее всего, не только особенность психики или продукт воспитания, а нечто на уровне подсознания, доставшееся, видимо, от наших крепостных предков. Думаю, именно это имел в виду А.П. Чехов, говоря, что он «всю жизнь по капле выдавливает из себя раба». Человеку с таким комплексом присуща, как правило, искажённая, большей частью заниженная, самооценка и, как следствие, недостаточная уверенность в себе. В большинстве случаев она сочетается с повышенным (ущемлённым) самолюбием, а так же склонностью преувеличивать значение мнения окружающих о своей персоне. Порождённый этими чувствами душевный дискомфорт в своих крайних формах проявляется в виде зажатости, скованности, замкнутости или, напротив, суетливости, даже угодливости. «Комплекс второсортности» является серьёзной помехой в налаживании простых и естественных контактов его обладателя с окружающими на основе наиболее ценимого при мужском общении спокойного достоинства. Люди с таким комплексом чаще других упускают шансы, так редко предоставляемые жизнью и потом почти никогда не повторяющиеся, проявить себя, то есть своевременно (в нужное время, в нужном месте и в данной ситуации) использовать свои способности, знания и опыт с максимальным эффектом. К сожалению, «комплекс второсортности» не раз давал мне знать о себе, вызывая горечь, внутренний протест, а в некоторых случаях, толкая на резкие, опрометчивые поступки. Борьба с ним, «выдавливание из себя раба» стоили мне немалых душевных сил и даже сейчас нельзя сказать, что здесь достигнут окончательный успех. К концу лета перед мамой встал вопрос – отдавать меня в сентябре в школу или ждать ещё год. По существующим тогда правилам дети начинали учиться с восьмилетнего возраста. Как было практически всегда в важных вопросах, мама поступила здраво и не стала ждать этого срока. Какую-то роль в этом сыграли, видимо, моё горячее желание идти учиться и успехи в освоении грамоты. В предвидении столь важного события мама повезла меня в Шацк, где заказала в мастерской для меня зимнее пальто. Портной постарался на славу: обнова получилась добротная, со щедрым слоем ваты, чёрным верхом из материала с загадочным названием «чёртова кожа» и меховым воротником «под котик». Естественно, пальто было сшито с откровенным расчётом «на вырост», доходило мне до пят и выглядело монументально, как поповская ряса. Первое сентября казалось мне самым подходящим днём, чтобы одеть такую красу. Погода этому способствовала: первое сентябрьское утро выдалось холодное, с заморозком. Величаво шествовал я в новом пальто по покрытой затвердевшими колдобинами и замёрзшими лужами деревенской улице. На левом боку у меня висела холщовая «торба» с книгами и тетрадками. Впереди ждала школа, и жизнь была прекрасна. Поэтому меня очень удивила сдержанная реакция шедшего рядом тоже в первый класс моего соседа и приятеля Коли Казея, когда на мой вопрос: – «Ты рад, что идёшь в школу?» – он как-то кривовато улыбнулся и сказал: «Не очень». Первый школьный день, однако, не остался в моей памяти. Похоже, впечатления, связанные с новым пальто, были в этот день самыми сильными, тем более, что обратный путь из школы я проделал, обливаясь потом под пригревшим полуденным солнцем. Весь период учебы в первом классе, кроме нескольких разрозненных эпизодов, не запомнился. Учёба давалась легко и проходила почти самотёком. Никто моих школьных дел не контролировал: маме было недосуг, сёстры по возрасту не были для меня авторитетом, старший брат учился в Минске, отец жил в Ленинграде. Заканчивая деревенскую школьную тему, стоит упомянуть наших учителей. Их было всего трое: директор школы по фамилии Дорожка и два учителя. Учитель Демидчик, лет 25-30, преподававший в 1-м и 2-м классах, –мой первый учитель. В 3-м и 4-м классах учителем был Цвирка – средних лет инвалид, потерявший ногу в 1-й мировой войне. Грянувшая вскоре война обошлась с ними по-разному и в чём-то весьма символично. Дорожка партизанил и пережил войну. Демидчик стал полицаем и ушёл с немцами. Цвирка, оставшийся в военное лихолетье сугубо мирным человеком, погиб. Это типично для той «мясорубки», которой фактически были по отношению к мирному населению районы, подчас громко именуемые в нашей прессе «партизанскими краями». Периодически сменявшие в них друг друга немцы и партизаны вершили каждый свой суд и расправу над беззащитным населением, бесцеремонно реквизируя у людей скот, имущество, продукты. Людская жизнь была дешевле куска сала. Именно при попытке вернуть отобранное у семьи мясо забитого кабанчика был убит «партизанами» дядя Илларион. Посеянная в период коллективизации и раскулачивания вражда между односельчанами тоже дала свои кровавые всходы. С приходом немцев в деревне объявился ранее раскулаченный и посаженный в тюрьму отец Константина Соловья (мужа тёти Любы). Не знаю деталей его деятельности, но надо полагать, с помощью немцев он смог свести счёты с кем-то из своих обидчиков. Сменившие немцев партизаны нашли «адекватный» ответ, расправившись без следствия и суда с ни в чём перед людьми и Советской властью не виноватыми его сыном и невесткой. Тётю Любу и дядю Константина застрелили на крыльце дедушкиной хаты, на глазах деда Тараса, бабушки Устиньи и малолетних детей. Воистину, как писал еще 500 с лишним лет назад митрополит Филипп Ивану Грозному, «в иных странах милосердие знают, а на Руси и к невинным жалости нет». В послевоенные годы деревня Веркалы так и не смогла оправиться. Её постигла судьба тысяч и тысяч деревень Советского Союза, которым «мудрая аграрная политика КПСС» нанесла урон не меньший, чем жестокая война. Спасаясь от такой политики, население всеми силами стремилось в города. Мне довелось побывать в своей деревне в 1976 году. Весь состав активных тружеников колхоза включал тогда в Веркалах одиннадцать пожилых женщин. Остальное взрослое население деревни трудилось или в других сферах народного хозяйства, или связало свою жизнь с городом, приезжая в Веркалы только на летний отдых. Благо места там замечательные! Вот только чудесная тихая речка, в которой в мои времена купались, ловили рыбу, даже иногда сплавляли лес, в результате «преобразования природы» горе-мелиораторами превратилась в маленький едва заметный ручеёк. К тому же всё это уже другая страна. Прощайте, Веркалы!
Дело дяди Феди
Остановиться отдельно на деле дяди Феди – Фёдора Казимировича Лапцевича (далее в тексте Ф.К.) и подробнее коснуться его судьбы мне хочется по ряду причин. Во-первых, из поколения моих родителей он наиболее тесно соприкоснулся с нашей семьёй, и я знаю о нём больше, чем о других папиных и маминых братьях. Во-вторых, Ф.К. был самым способным из них и наиболее настойчив в своём стремлении «выбиться в люди». В связи с этим воздействие на его судьбу окружающей действительности более заметно и «адекватно» времени, в котором он жил. В-третьих, непосредственное знакомство со «следственным делом» Ф.К. поможет на конкретном примере пояснить, как и с кем «боролась» машина государственного террора, какими методами и способами фабриковались в НКВД тысячи тысяч подобных дел, и какой пустячной вещью для государственной системы была в то время жизнь человека. Чтобы составить о Ф.К. общее представление, приведу некоторые его биографические данные. При этом сведения, относящиеся к периоду его жизни до 1938 года, взяты из следственного дела, с которым я ознакомился в апреле 1994 года. Поэтому данные биографии Ф.К. имеют, к сожалению, специфически обрывочный характер, поскольку они фиксировались выборочно, исходя из интересов следствия. Фёдор Казимирович Лапцевич родился 18 февраля 1892 года в деревне Веркалы, в семье крестьянина. В хозяйстве отца имелось: лошадь, две коровы, мелкий скот, изба и надворные постройки. Семья состояла из девяти человек: родители, пять сыновей и две дочери. В царской армии Ф.К. служил с 1913 по 1918 год. В 1913 году начал службу рядовым, в 1914-м и 1915-м годах служил писарем в Смоленском вещевом складе, в 1917 году рядовым на радиотелеграфе Западного фронта в городе Минске. Первого мая 1917 года по личной просьбе Ф.К. был направлен в школу прапорщиков Западного фронта в город Псков. По окончании школы первого октября 1917 года Ф.К. был произведён в офицеры и в чине прапорщика направлен в 37-й пехотный полк (город Минск). До февраля 1918 года служил в этом полку в должности помощника командира роты, а с началом «выборного времени» был избран солдатами командиром роты. В феврале 1918 года немцы начали наступление и заняли Минск. В боях за Минск Ф.К. получил ранение в ногу. 37-ой полк 20-21 февраля 1918 года разбежался, и Ф.К. уехал в родную деревню Веркалы, которая в то время тоже находилась на оккупированной немцами территории. В конце мая 1918 года Ф.К. подался из деревни, как он потом рассказывал, вместе с маминым братом Кузьмой (тоже офицером). Перед линией фронта (то ли в Борисове, то ли в Орше) они расстались. Ф.К. решил пробираться в Смоленск, где была советская власть, а дядя Кузьма – в Добровольческую армию. Для дяди Кузьмы эта развилка оказалась роковой: с тех пор о нём нет никаких известий. Оказавшись в Смоленске, Ф.К. поступает служить в пограничную ЧК и служит там в качестве секретаря до декабря 1918 года. С 1919 года по сентябрь 1922 года Ф.К. служит в Красной Армии. Последняя его армейская должность – заведующий хозяйством 67-го стрелкового полка, дислоцированного в городе Слуцке.
Дядя Федя. Витебск, начало 20-х годов прошлого века
Видимо, в этот период он женился. Жена Софья (по национальности полька) служила (или работала) в этом же полку. О занятиях Ф.К. после демобилизации есть только запись о том, что в 1924 году он работал в течение 9 месяцев начальником канцелярии Окружного военкомата. В 1929 году Ф.К. переезжает в Ленинград и поступает на учёбу в Лесотехническую академию. Видимо, это были нелёгкие годы в жизни дяди и его семьи. Первый год он вообще не имел жилья, жил в комнате бывшего товарища по полку Жгуна Ефима Акимовича. Семья Ф.К. распалась: жена умерла в 1935 году, а двух дочерей, по-видимому, увозят к себе родственники жены. В следственном деле Ф.К. в графе семейное положение отмечено: «одинокий». Возможно, Ф.К. на следствии о своих дочерях намеренно не упоминал, чтобы не навлечь на них вполне вероятные гонения в связи с его арестом. После окончания Лесотехнической академии Ф.К. работает коммерческим директором фабрики «Пролетарский труд». Материальное положение его значительно улучшается. Он солидно обустраивает полученную к этому времени просторную комнату в квартире № 6 дома 36 по улице Чайковского и ведёт жизнь одинокого обеспеченного ещё не старого мужчины. В начале 1937 года из деревни приезжает мой отец, и Ф.К. поселяет его у себя. Думаю, это обстоятельство не внесло особых перемен в его благополучную жизнь. Если, конечно, таковой можно назвать существование, пусть устроенное и сытое, под дамокловым мечом свирепствовавшего в те годы НКВД. В августе-сентябре 1937 года из числа близких знакомых Ф.К., часто бывавших у него дома, арестовывают Калесинского Алексея Казимировича (друга ещё с Белоруссии) и начальника кафедры академии имени Толмачёва Шаранговича Петра Михайловича. Летом 1938 года доходит очередь и до Ф.К. Как обычно в таких случаях, всё произошло внезапно. Вечером 16 июня мой отец уехал в ночную смену на фабрику «Веретено» (к этому времени он работал там смазчиком-мотористом), а вернувшись рано утром следующего дня узнал, что Ф.К. ночью увели. В комнате был обыск, комната опечатана. О том, что происходило ночью, отец в общих чертах узнал от присутствовавшего при аресте управдома. Я же почти 60 лет спустя получил возможность узнать обо всём более подробно из «Следственного дела №56049 по обвинению Лапцевича Фёдора Казимировича в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-6-8-11 УК РСФСР» (архивный №П-6531). Моё знакомство с делом происходило 29-30 апреля 1994 года в приёмной архива «ВЧК-ОГПУ-КГБ» на улице Шпалерной 27. Надо ли объяснять моё волнение, с которым я взял в руки серую, казённого вида нетолстую папку. Никакой бывший в моих руках прежде документ, будь он под грифом «совершенно секретно» или «особой важности», не вызывал во мне столь глубокого интереса и чувства постижения тайны. В своих руках я держал вырванный с мясом кусок человеческой судьбы – папку, которая, как давший осечку патрон направленного в упор ствола, только чудом не стала «последним аргументом» в жизни дяди. Первый день знакомства со «Следственным делом» я мог только читать его. За каждым просматриваемым документом вставали картины ареста, обыска, допросов Ф.К. Я физически ощущал охватившие его ужас, растерянность, недоумение, безнадёжную обречённость и редкие проблески надежды. Только на второй день, справившись со своими чувствами, я смог сделать выписки из материалов дела, очень беглые, поскольку ни разрешения, ни времени на их производство у меня фактически не было. Думаю, знакомство с ними будет интересно каждому, в особенности тем, кому не довелось заглянуть в эту «кухню» мастеров заплечных дел. Поэтому я буду стараться использовать здесь свои выписки с возможной полнотой, указывая настоящие фамилии всех действующих лиц. Начальный импульс всему делу Ф.К. даёт «Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения» от 16 июля 1938 года. В нём значится: «Лапцевич Ф.К., 1892 г.р., уроженец г. Слуцка, русский, гражданин СССР, работает коммерческим директором артели «Пролетарский труд», проживающий по улице Чайковского, дом 36, кв. 6, достаточно изобличён в том, что он является участником контрреволюционной, военно-офицерской организации «РОВС» и подлежит аресту. Подписал: пом. опер. уполномоченного 9 отделения III отдела сержант ГБ А. Широчин. Утвердил: Нач. УНКВД ЛО комиссар ГБ 3 ранга Литвин 15.07.1938. «Арест санкционирую». Военный прокурор ЛВО (подпись неразборчива, фамилия не обозначена)». После прочтения этого довольно неряшливо составленного документа сразу возникают вопросы. Какие основания имелись у сержанта ГБ Широчина для категорического заключения о том, что Ф.К. «достаточно изобличён»? Где ссылки на чьи-либо показания, документы, улики и так далее, подтверждающие принадлежность Ф.К. к Российскому Общевоинскому союзу (РОВС)? Ничего подобного нет в данном «Постановлении», да и не может быть, поскольку оно является первым по времени написания из всех документов, находящихся в деле. Единственно чем, возможно, могло располагать следствие на 16 июля 1938 года, это не привязанная ко времени выписка из показаний Панкова А.А. (в тексте выписки отсутствуют как дата допроса, так и дата ее исполнения). Но в тексте этой выписки Ф.К. лишь упоминается среди тех, с кем Панков А.А. работал в свою бытность Окружным военкомом. Напомню, что в 1924 году в течение девяти месяцев Ф.К. работал начальником канцелярии военкомата. Выписка не могла являться основанием для обвинения Ф.К. в членстве в РОВС, поскольку сам Панков А.А. к РОВС не имел никакого отношения, а был осуждён «за принадлежность» к организации Савинкова (потом, кстати, это же «пришьют» и Ф.К.). Таким образом, «Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», обрекающее в те времена человека на годы тюрьмы (в лучшем случае), а то и на смерть, не имеет под собой никакой фактической основы. Оно возникло по произволу в недрах НКВД и представляет собой не что иное, как набор угрожающе-звонких («…изобличен…», «…контрреволюционный…», «…военно-офицерской…» и тому подобных), а по юридической сути пустых словосочетаний, за которыми не содержится ничего реально компрометирующего Ф.К. Это не могло не быть очевидным для всех должностных лиц, чьи подписи значатся на этом документе. Тем не менее «Постановлению…» даётся ход без каких-либо вопросов. На его основании немедленно выписывается «Ордер на обыск и арест», и уже 17.07.1938 г. следователем Копытовым (в присутствии красноармейца Толстолуцкого и управдома Желнова) Ф.К. был арестован. Вот теперь следствие и начинает добывать «факты». Ларчик открывается просто. Все «факты» следователи ГБ добывали (вернее, выбивали) от самих заключенных. Это, кстати, и не очень скрывалось. Об этом наглядно свидетельствует протокол первого допроса Ф.К. от 21 июля 1938 года. Хотя дата допроса указана одна, текст показаний состоит из двух (явно написанных в разное время) частей, содержание которых противоположно по смыслу. В первой, небольшой по объему, части протокола на вопрос следователя: состоит ли обвиняемый членом РОВС, контрреволюционной Савинковской организации, занимался ли шпионажем в пользу Германии и так далее – Ф.К. отвечает определенно отрицательно. Никаких контрреволюционных или шпионских действий, высказываний или намерений он за собой не признаёт. Вторая, основная, часть показаний (написанная в этом же протоколе, но чернилами другого оттенка) начинается фразой типа: «Я подумал и решил во всём признаться…», и далее излагаются нужные следователю «факты» о том, как будто бы Ф.К. в 1930 году на открытии Петергофских фонтанов познакомился с бывшим поручиком царской и белой армий неким Дическулом Виктором Евгеньевичем. Во время одной из последующих встреч Дическул предложил Ф.К. вступить в РОВС с целью вербовки в него других недовольных Советской властью и шпионажа в пользу Германии. Ф.К. на всё это якобы даёт согласие и в период 1934-35 годов вербует трёх человек, а именно: – Чистякова Дмитрия Павловича, около 47 лет, бывшего офицера царской и белой армий, ныне бухгалтера 4-й ГЭС; – Абрамова Александра Ильича, около 40 лет, бывшего подпрапорщика царской и белой армии, работающего на заводе имени Калинина; – Гусева Павла Николаевича, около 42 лет, прапорщика царской и белой армии Юденича, работающего на Полюстровском химкомбинате. Эти «агенты» якобы снабжали Ф.К. «шпионскими сведениями», которые он сообщал Дическулу для передачи немецкой разведке. В протоколе упоминаются буквально следующие сведения: завод имени Калинина производит пушки, а Полюстровский химкомбинат – боеприпасы. Видимо, фантазии следователя не хватило на что-нибудь менее общеизвестное. После этого протокола – «признания» в следственном деле Ф.К. появляются и другие «факты», имеющие целью подкрепить навязанную следствием версию. «Членство Ф.К. в контрреволюционной Савинковской организации», видимо, по убеждению следствия, должно вытекать из факта знакомства дяди с Панковым А.А. «Членство Ф.К. в контрреволюционной военно-офицерской организации» подтверждается выпиской из показаний арестованного Дическула В.Е., датированной 7 августа 1938 года, в которой он признаёт факт вовлечения им Лапцевича Ф.К. в «Российский общевоинский союз». «Шпионская деятельность» дяди находит своё подтверждение в «дополнительном протоколе допроса» арестованного Гусева П.Н. от 3 августа 1938 года. В ходе этого допроса очередная жертва ГБ сообщает, что для шпионской работы в пользу Германии его завербовал «Ланцевич, бывший прапорщик царской и белой армии Юденича, ныне работающий директором треста кооперации». Здесь же подтверждается факт передачи ему шпионских сведений о Полюстровском химкомбинате. На этих путаных показаниях и исчерпывается весь, с позволения сказать, «материал» обвинения. Нетрудно заметить характерную особенность этого «материала». Он целиком, от первого до последнего слова, добыт от людей, пребывающих в заключении. И, как станет совершенно ясно из дальнейших документов, от людей, никогда не видевших и не знавших друг друга, исключая пару Панков–Лапцевич, которые к моменту ареста Ф.К не встречались уже 14 лет! Похоже, НКВД умудрился наладить в своих недрах своеобразное «самообслуживание» среди заключенных, добывая от них по несколько измененной поговорке – и битьём, и катаньем – компромат друг на друга «по замкнутому циклу». Но у меня нет намерения бросить камень в кого-либо из людей, имевших несчастье оказаться в «ежовых рукавицах» ГБ. Сейчас нам очень хорошо известно, что на их месте мог оказаться любой из живших в то время, и практически любого, попавшего в застенки НКВД, могли заставить говорить то, что требовалось палачам. Достойно осуждения другое – лакейское стремление оставшихся на воле начальников, партийных и профсоюзных активистов, а так же «отдельных членов коллектива», подыграть НКВД, поскорее отказаться от человека, ничем себя не запятнавшего, но неожиданно оказавшегося под колёсами ГБ-шной машины. Показательна в этом отношении служебная характеристика Ф.К., подписанная директором фабрики имени Мюнстенберга неким Кацнельсоном. В ней не нашлось места чему-либо хорошему об Ф.К., только негатив: «высокомерен по отношению к окружающим», «слабо вникал в производственные вопросы» и тому подобное. На этом и закончилось участие «трудового коллектива» в судьбе своего товарища, оказавшегося в смертельной опасности. После сбора указанных «материалов» следствие надолго замирает. Следующий, второй допрос Ф.К., состоялся лишь 13 апреля 1939 года. Можно представить, чего стоили прошедшие восемь месяцев мучительного бездействия человеку, сознающему, что своими «признаниями» он фактически уже подписал себе смертный приговор. Никогда не изгладится из моей памяти имеющаяся в деле тюремная фотография дяди. Судя по не менее как двухнедельной щетине на лице, фотографировали Ф.К. уже после того, как он «сознался». Сквозь вымученное стремление придать перед объективом своему лицу достойное выражение печать безнадёжности, обречённости, горького недоумения проступала на нём столь ярко и пронзительно, что у меня сдавило сердце. С фотографии смотрели на меня глаза человека, вдруг осознавшего, что он летит в бездну. Второй допрос был очень кратким. В ходе его от Ф.К. потребовали подтвердить своё знакомство с некоторыми лицами из предъявленного ему списка. Вполне возможно, что в связи с какой-нибудь очередной, затеянной в УНКВД интригой, следователи ГБ создавали себе очередной «задел». Но вдруг, спустя неделю после второго допроса, в ходе следствия наступает резкий поворот. 19 апреля 1939 года вызываются на допрос в «большой дом» мой отец, дядя Гавриил и уже упоминавшийся близкий знакомый Ф.К. Жгун Е.А. Вызваны также соседи Ф.К. по квартире – инженер-строитель Зюзин Алексей Фёдорович и инженер-механик Чернявский Пётр Александрович. В ходе допросов никто из перечисленных лиц не сказал в адрес Ф.К. ничего предосудительного, отмечая в один голос его «положительное отношение к Советской власти» и не раз высказываемые Ф.К. слова благодарности этой власти за то, что при ней он смог получить высшее образование. Что удивительно, следователь, как показывают задаваемые им вопросы, и не стремился добыть на Ф.К. компромат, ограничившись добросовестной фиксацией этих доброжелательных по отношению к дяде отзывов в протоколах. Более того, в эти же дни повторно допрашиваются якобы завербованные Ф.К. «агенты», которые в ходе повторных допросов отказываются от данных ранее показаний по поводу их вербовки. В частности, обвиняемый Гусев П.Н. на допросе 22 апреля 1939 года заявил, что Лапцевича Ф.К. он не знает и никогда не встречал. Ранее дал ложные показания, так как, по его словам, «на меня влияла камерная обстановка». Обвиняемому Абрамову А.И. на допросе, проходившем 25 апреля 1939 года, следствие позволило быть еще более откровенным. Утверждая теперь, что Лапцевича Ф.К. он не знает, Абрамов заявил: «протокол с обвинениями в адрес Лапцевича был написан заранее следователем по своей фантазии. Он вызвал меня ночью и под угрозой заставил подписать заранее написанный им протокол. Подписывая протокол, я в отчаянии ему сказал: «Кто такой Лапцевич?». А 26 апреля 1939 года уже сам Ф.К. на состоявшемся допросе полностью отказывается от своих показаний, зафиксированных во второй части протокола допроса от 21.07.1938 года. Он отрицает своё членство в РОВС, в организации Савинкова, а так же какую-либо контрреволюционную или шпионскую деятельность. Утверждает, что ни Дическула, ни тех, кого он «завербовал», он не знает и никогда их не видел, а что касается Панкова, то он настаивает на проведение с ним очной ставки. Следователь не проявляет на этот раз желания «убедить» Ф.К. в обратном, и на этом следствие объявляется законченным. Просьба о проведении очной ставки Ф.К. с Панковым отклоняется специальным постановлением. В итоге девятимесячного, мучительного для Ф.К. процесса появилось «Обвинительное заключение по следственному делу №56049-38г. по обвинению Лапцевича Ф.К. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-6, 58-8, 58-11 УК РСФСР». Привожу его обвинительную часть, выписанную мною дословно из следственного дела. «…Лапцевич Ф.К. обвиняется в том, что: – является участником контрреволюционной организации РОВС, по заданию которой собирал шпионские сведения на территории СССР и передавал их германской разведке; – по контрреволюционной деятельности Лапцевич Ф.К. был связан с участником контрреволюционной организации Панковым А.А. (осужден), Дическулом В.Е., Абрамовым А.И., Гусевым П.Н. (арестованы); – виновным себя вначале признал, но на последнем допросе от ранее данных им показаний отказался. Изобличается показаниями осужденного Панкова А.А. и обвиняемых Дическула, Гусева, Абрамова. Исходя из вышеизложенного, полагал бы следственное дело по обвинению Лапцевича Ф.К., по согласованию с военным прокурором ЛВО, направить на рассмотрение Особого Совещания при НКВД СССР. Следователь Гаврилов. «Согласен» Зам. начальника следственной части УНКВД по г. Ленинграду мл. лейтенант ГБ Куликов. «Утверждаю» Начальник управления НКВД по г. Ленинграду майор ГБ Огольцов. 15.05.1939г.».
При самом тщательном изучении как «Обвинительного заключения», так и всего следственного дела, невозможно обнаружить хотя бы один-единственный достоверный факт, который, пусть даже косвенно, мог бы указать на действительную принадлежность Ф.К. к контрреволюционной организации или подтвердить его шпионскую деятельность. Что касается имеющихся в «Обвинительном заключении» ссылок на «обличающие показания», то настоящая им цена видна из слов Гусева и Абрамова на допросах в апреле 1939 года, которые, кстати сказать, следствие почему-то не посчитало нужным отразить в этом итоговом документе. Сейчас мы знаем, что даже этой юридической погремушки в те времена было вполне достаточно для вынесения приговора на высшую меру. Правда, в последнем абзаце обвинительной части «Заключения» содержится и некая оговорка: «…от ранее данных показаний отказался…». Она включена следствием, без сомнения, не случайно, ибо совершенно очевидно, что аппарату УНКВД было вполне по силам соорудить «дело» без малейшей зацепки. А такая «зацепка» давала вышестоящему органу как бы законную возможность выносить по делу любое решение соответственно своим «потребностям». Таким образом, ленинградская ГБ могла «с чистой совестью» отрапортовать о выполнении своей части работы («дело состряпано»), а уж запятую во фразе «казнить нельзя помиловать» может ставить Особое Совещание, исходя из «государственных интересов» на текущий момент. Трудно сказать определенно, что лежало в основе последующего решения по делу Ф.К. московских инстанций. Вряд ли, конечно, решающую роль сыграл тот факт, что его материалы были уж слишком противоречиво и топорно составлены. Думаю, с этой точки зрения следственное дело Ф.К. было ничуть не хуже и не лучше тысяч других, потоком проходивших через Особое Совещание, и решения по которым принимались без каких-либо проволочек: расстрел или длительный срок заключения. Поэтому причины невероятного поворота в судьбе Ф.К. находятся, безусловно, вне его следственного дела. Скорее всего, на момент поступления дела Ф.К. в Москву резко изменилась конъюнктура в самом НКВД. Свои предположения на этот счет я изложу позже, а пока возрадуемся несказанному везению Ф.К.: его дело вернули! Оперативный уполномоченный секретариата Особого Совещания лейтенант ГБ Байков с согласования зам. начальника секретариата старшего лейтенанта ГБ Боровкова 3 июля 1939 года вынес заключение: «дело Лапцевича Ф.К. направить на доследование для уточнения противоречий в показаниях Лапцевича, Дическула, Гусева, Абрамова. (Из их показаний следует, что эти лица друг друга не знают)». После этого следствие снова замирает на четыре месяца. Видимо, это время ушло на решение вопроса: в какую сторону «уточнять противоречия»? В сторону их полного сглаживания (что, как мы уже убедились, было вполне по силам следствию) или в сторону их подтверждения? А для Ф.К. со дня последнего допроса (26.04.39г.) всё тянулись дни, недели и месяцы мучительного ожидания. В деле нет никаких признаков того, что до него довели решение Особого Совещания, и каждый свой новый день дядя встречал с мыслью, что он может быть последним. И все-таки Ф.К. опять повезло: по неведомым и никак не отраженным в деле причинам следствие избрало второе направление. 23 ноября 1939 года следователем следственной части УНКВД мл. лейтенантом ГБ Науменко допрашиваются вторично мой отец, дядя Гавриил и сосед Ф.К. по квартире уже упоминавшийся Зюзин А.Ф. Допрос, судя по всему, имел формальный характер. Всем задается одинаковый и единственный вопрос: «Знает ли свидетель Абрамова, Чистякова, Гусева, Дическула?» Каждый из допрошенных даёт отрицательный ответ, чем следователь и довольствуется. 29 ноября 1939 года в «Следственном деле» появляется постановление, которое привожу в подробном изложении. «Рассмотрев следственное дело № 56049-38 по обвинению Лапцевича Ф.К., 1892 г.р., уроженца БССР, Слуцкого района, дер. Веркалы, белоруса, гражданина СССР, б/п, образование высшее, одинокого, до ареста коммерческого директора фабрики им. Мюнценберга, проживающего по ул. Чайковского 36, кв.6 в преступлениях, предусмотренных ст.58-6, 8, 11 УК РСФСР нашел: Обвиняемый Лапцевич Ф.К. арестован 17 июля 1938 года как участник контрреволюционной военно-офицерской организации РОВС. Обвиняемый Лапцевич Ф.К. вначале признал себя виновным показав, что является участником контрреволюционных Савинковской организации и военно-офицерской организации РОВС. В первую был завербован Панковым А.А. (осужден), а в РОВС в 1930 году его завербовал Дическул В.Е. В свою очередь обвиняемый Лапцевич Ф.К. в 1934-35 гг завербовал в состав РОВС’а Чистякова, Гусева, Абрамова. Через Дическула Лапцевич передавал германской разведке ряд шпионских сведений. На допросе 26 апреля 1939 года обвиняемый Лапцевич Ф.К. от своих ранее данных им показаний отказался, заявив, что Дическула, Чистякова, Гусева, Абрамова он не знает, никогда с ними не встречался, и кто они такие ему неизвестно. Осужденный Панков в собственноручно написанном протоколе показал, что им был завербован в состав Савинковской организации Лапцевич Ф.К. Обвиняемые Гусев и Абрамов сначала показали, что были привлечены Лапцевичем Ф.К. в РОВС, но от своих показаний отказались и освобождены. Постановил: 1. Уголовное преследование обвиняемого Лапцевича Ф.К. по ст.58-6, 8, 11 УК РСФСР прекратить. Следственное дело сдать в архив. 2. Обвиняемого Лапцевича Ф.К. из-под стражи освободить. 3. Личные документы обвиняемого возвратить по принадлежности. Следователь Науменко». Согласовали и утвердили это «Постановление» те же лица, которые ранее дали ход «Обвинительному заключению»: соответственно Куликов и Огольцов (10.12.39 г.). Нетрудно видеть, что как «Обвинительное заключение», обосновывающее базу для уголовного наказания Ф.К. вплоть до расстрела, так и «Постановление» о прекращении его дела и освобождении, опираются на одни и те же «факты» и, кроме своих противоположных по сути постановляющих частей, практически идентичны. Преамбула и констатирующая часть первого документа отличались от соответствующих частей второго лишь отсутствием в «Обвинительном заключении» упоминания об отказе Гусева и Абрамова от своих показаний, порочащих Ф.К. Это и есть та доза положительной информации, которую следствие не посчитало нужным включать в этот документ, хотя, напомню, отказ был совершён «агентами» Ф.К. за 20 и более дней до утверждения «Обвинительного заключения». Видимо, из опасения, что слишком упадёт его обличающая «крепость». Ссылки на отказ Гусева и Абрамова от своих показаний включаются позже, когда требуется обосновать прекращение уголовного преследования Ф.К. Таким образом, «следственное дело» Ф.К. (как и многие тысячи других) целиком построено не только на «фактах» вымышленных и насквозь лживых, но к тому же и подтасованных. Это ещё одно подтверждение царившего в стране произвола, прикрытого некоторым подобием соблюдения юридических норм. 13 декабря 1939 года вечером Ф.К. был освобожден из «Крестов» и явился к нам, на Каляева 11. Дяде предстояло начинать жизнь сначала. Работу он потерял, его отличная по тем временам комната, на третьем этаже, с балконом, в красавце-доме уже давно была занята. Ф.К. действительно считал себя вновь появившимся на свет. В заключение приведу несколько выплывших из архивов ГБ исторических фактов, лежащих, без сомнения, в основе массовых арестов бывших офицеров старой армии в конце 1937 и в 1938 годах. В сентябре 1937 года в Париже агентами НКВД был похищен председатель Российского Общевоинского союза царский генерал Евгений Карлович Миллер (1867-1939). Суд над ним в СССР правительственные верхи планировали превратить в громкую политическую акцию, в ходе которой рассчитывали «раскрыть» якобы действующую в Советском Союзе «широко разветвлённую контрреволюционную организацию» членов РОВС, связанную, само собой, с германской разведкой. Для этого и потребовались НКВД бывшие офицеры «царской и белой армий». Начались их повальные аресты. Самому генералу Миллеру на первом же допросе в ГБ был предложен выбор: расстрел или смягчение участи при условии его обращения к членам РОВС с призывом к покаянию и прекращению борьбы, а также согласии на участие в соответствующем процессе. Однако Миллер дал твёрдый отказ, и все последующие многомесячные усилия деятелей ГБ, включая лично Ежова, не смогли сломить волю генерала. 11 мая 1939 года он был тайно расстрелян. Таким образом, широко задуманный судебный процесс сорвался. Потерял к этому времени актуальность и вопрос со «шпионажем» в пользу Германии, поскольку уже затевалась дипломатическая многоходовка с германо-советским пактом. Поэтому в ходе кратковременной кампании по очистке органов НКВД от наиболее одиозных дел, последовавшей после смены Ежова Берией, и стало возможным неслыханное везение, выпавшее на долю Ф.К. и его «агентов» Гусева и Абрамова (третий «агент» Чистяков, похоже, вообще не арестовывался). К сожалению, судьба Дическула и Панкова мне неизвестна, хотя нет сомнения, что генерал Миллер своей верностью долгу и чести спас от неминуемой смерти ещё немало невинных жертв. Освобождение Ф.К. из лап НКВД можно принять за чудо. И не только из-за малой вероятности такого события в то безжалостное время, но и по своему судьбоносному значению для мамы, моих двух сестёр и меня. Как станет ясно из дальнейшего, не будь Ф.К. на свободе в начале войны, вряд ли кто из нас пережил первую блокадную зиму. В один из огненных дней сентября 1941 года, когда кольцо блокады только что сомкнулось, судьбы Ф.К. и нас четверых оказались в жёсткой сцепке. Не найдись тогда в его сердце достаточно добра и душевной теплоты, чтобы, сквозь вставшие перед каждым вплотную вопросы собственной жизни и смерти, а также своей семьи, вспомнить о семье недавно призванного в армию брата Василия и оказать ей возможную помощь, – в нашем роду не появились бы потом Григорьевы, Пашковы, Фомичёвы и Лапцевичи: Николаевичи с Борисовичами. Спасённый благодаря стойкости генерала Миллера дядя Федя, в свою очередь, спас от голодной смерти нас. Такая причинно-следственная связь событий и людских судеб столь невероятна, что невольно воспринимается как прямое выражение воли провидения, ставшее при этом возможным, благодаря незаурядной силе духа, проявленной двумя настоящими мужчинами, хотя и в разных по масштабам, но чрезвычайно нелёгких для каждого обстоятельствах. Поэтому и рассказ о дяде Феде мне хочется закончить фразой повышенной тональности: судьбоносно – благотворные события для «ближних своих» создаются людьми лишь тогда, когда воля провидения дополняется соответствующими нравственными качествами человека. Хотя бы одно из таких событий в течение жизни с лихвой оправдывает пребывание любого из нас на этой земле.
Г о р о д
Каляева 11. Квартира номер семь и её жильцы
Вернувшись с ночной смены ранним утром 18 июля 1938 года, отец узнал об аресте брата и увидел их комнату опечатанной. Некоторое время он прожил в коридоре, но затем, потеряв терпение, вскрыл печати. Это отцу сошло с рук, однако, долго ему жить там не дали. На великолепную дядину комнату сразу нашлись влиятельные претенденты. И районные власти, надо полагать, были уверены, что Лапцевич Ф. К. обеспечен новым «жильём» надолго, если не навсегда. Вместе, и те, и другие, легко провернули комбинацию, в результате которой отец был выписан из комнаты брата и взамен получил девятиметровую комнату на четвёртом этаже дома № 11 по улице Каляева. Но, как говорится, «нет худа без добра». Получив собственное жильё, отец обрёл законную возможность перевезти в Ленинград свою семью. И вот, в начале августа 1939 года я вижу всех нас с многочисленными узлами на остановке трамвая перед Витебским вокзалом. Позади остался почти трёхсуточный переезд: 40 километров на грузовике от Веркал до железнодорожной станции Пуховичи, затем железной дорогой до Ленинграда с пересадкой в Витебске. Отчётливо помню, что всё прошедшее перед моими глазами за время путешествия, как и открывшийся передо мной большой и шумный город с его обилием транспорта и других диковин, конечно, вызывало моё любопытство и интерес. Однако, эти чувства были совсем не похожи на иногда изображаемую в фильмах оторопь, от которой попавший в город провинциал якобы застревал с открытым ртом посреди улицы. Как ранее окружавшую меня пленительную природу, так и представшие теперь перед моим взором «чудеса» большого города, я воспринимал спокойно, как само собой разумеющуюся данность. Видимо, чтобы обрести способность удивляться окружающему, надо знать о мире существенно больше, чем это доступно восьмилетнему ребёнку. Смотря на окружавшие меня многоэтажные дома, я удивлялся и недоумевал по другому поводу. Меня занимал вопрос, как при отсутствии лестниц живущие в домах люди умудряются попадать на второй и более высокие этажи? Ведь в деревне я знал только лестницы из двух жердей с перекладинами, а их на домах не было заметно. Поскольку вторым известным мне способом подниматься вверх было лазание по деревьям, то мне пришла в голову мысль, что, возможно, жильцы забираются на верхние этажи по идущим сверху вниз и напоминающим гладкие стволы сосен металлическим трубам? Правда, эту мысль я сразу отбросил, так как понимал, что пожилым людям такой способ не под силу. Мои сомнения разрешились, когда, после поездки в трамвае и короткого пешего перехода, мы оказались в парадной теперь уже нашего дома. Поднявшись по каменным ступеням лестницы на последний этаж, отец дёрнул за ручку, которой заканчивался длинный металлический прут, укреплённый сбоку от входной двери. За дверью раздался звонок, и очень скоро дверь открыла полная, небольшого роста пожилая женщина, встретившая нас довольно любезно. Квартира, в которую мы ввалились со всеми своими узлами, была небольшой и опрятной. Она удивила нас блеском паркетных полов и чистотой оклеенных обоями стен. В прихожей, в которую с лестницы вела двойная, закрывающаяся на массивный крюк, дверь, было ещё две двери: слева красивая двухстворчатая, справа обычная, одностворчатая. Напротив входной двери прихожая переходила в темноватый недлинный коридор. Отец двинулся в левую дверь, и мы попали за ним в просторную, светлую, в два окна, красиво обставленную комнату, в боковых стенах которой тоже двухстворчатые двери обозначали вход в смежные комнаты. Пройдя в левую из них, мы оказались в небольшой, тесно заставленной комнатушке. Это и было наше новое жильё. Заполнявшая её добротная дорогая мебель принадлежала дяде Феде. Светлая и уютная наша комната, помимо своих слишком скромных для нас размеров, имела и другой не менее существенный недостаток: попасть в неё можно было только через чужую жилую комнату, которую мы только что прошли, причём для этого требовалось пересечь её наискосок. Три комнаты, расположенные слева от входа в квартиру, (первая – наша комната, вторая – проходная и третья, смежная с ней, тоже в два окна, имела также выход в коридор) составляли вместе, в своё время, «жилую зону», какой-нибудь не очень состоятельной петербургской семьи. Была в квартире и комната, предназначавшаяся, видимо, для прислуги. В неё вела из прихожей упоминавшаяся одностворчатая дверь справа. За этой комнатой размещалась просторная, но темноватая, с одним окном в углу, кухня. Вход в кухню был из коридора. В торце его находился туалет. Ванны в квартире не имелось, телефона не было. В советское время в каждой комнате квартиры размещалось по семье. Остановлюсь на соседях подробнее. Дальнюю слева по коридору комнату (смежную с той, через которую мы проходили в свою) занимала семья Ленчевских: Анна Николаевна (открывшая нам дверь при нашем приезде) и Клавдий Антонович. Судя по всему, это были коренные петербуржцы с хорошим воспитанием. Оба они свободно владели немецким языком. Похоже, что А.Н. и К.А. ( возможно, и другие члены их семьи) жили в этой квартире и до революции. В пользу этого предположения говорит тот факт, что их единственный сын Андрей (я его видел перед войной в звании капитана, кажется, инженерных войск) занимал со своей семьёй комнату в квартире напротив нашей, через площадку. Как я узнал много позже, беря выписку из домовой книги, Клавдий Антонович в 1-ю мировую войну побывал в немецком плену. На момент нашего приезда он работал где-то служащим (сужу по виду продовольственной карточки, которую К.А. получал в войну). Среднего роста, полноватый, с холёным лицом, украшенным породистым с горбинкой носом, и коротким седым ёжиком довольно густых волос, Клавдий Антонович с жильцами квартиры (исключая, естественно, Анну Николаевну и ещё Марию Фёдоровну, о которой речь ниже) не общался, сохраняя по отношению к ним корректную отчуждённость. Все хозяйственные вопросы этой супружеской пары, включая и отношения с соседями по квартире, лежали на округлых плечах Анны Николаевны, полной седовласой дамы небольшого роста с довольно приятным лицом, которое, однако, портила изредка проглядывавшая в его чертах неискренность. Вскоре после нашего приезда она устроила нам, как сказали бы сейчас, своеобразный «тест» на честность: выставила на своё место в кухне тарелки, наполненные конфетами и печеньем. Мы «устояли», и через несколько дней «приманка» была убрана. Среднюю слева, проходную комнату, занимала Мария Фёдоровна Эген – худощавая, стройная пожилая дама. Высокая причёска, заканчивающаяся на макушке узлом седых волос, пенсне на шнурке, прямой и твёрдый взгляд, правильные черты гладкого, лишь слегка тронутого морщинами лица, строгая, элегантная, хотя и чуть старомодная одежда, создавали облик интеллигентной, с богатым внутренним миром женщины. Из общего ряда выделяло её и то, что при очевидной внешней привлекательности Мария Фёдоровна была незамужней – «старой девой». Она работала, преподавала в школе немецкий язык. Отношения с Ленчевскими у неё были почти родственными. Обедали они вместе, для всех троих готовила не работавшая Анна Николаевна. Несколько раньше в этот, семейный круг, входила ещё одна пожилая дама (возможно, сестра Анны Николаевны). Она умерла в 1938 году. Именно её комната досталась моему отцу. Можно представить, что должны были пережить Ленчевские, а особенно Мария Фёдоровна, когда в их, так сказать, «гнездо» вселилась наша шумная и многочисленная «стая». Однако, внешне они вели себя очень сдержанно. Я же тогда не ощущал особенных неудобств и, напротив, снуя туда-сюда через комнату Марии Фёдоровны, с любопытством пялил глаза на диковинную городскую обстановку. Помню, очень привлекало меня кресло-качалка, причём, не только соблазнительной возможностью в нём покачаться, на что я так ни разу и не решился, но и своим чрезвычайно изящным исполнением. А ведь я был лишь один из шести. Мария Фёдоровна, разумеется, такого проходного двора не могла терпеть и сразу предложила отцу перенести разделявшую наши комнаты стену на одно окно за счёт её жилплощади. Для обеспечения раздельного выхода из обеих комнат перед дверью в прихожую предполагалось устроить небольшой коридорчик. При этом положение общей двери позволяло и этот коридорчик образовать только за счет площади, остающейся у Марии Федоровны, что, в целом, вынуждало её поступиться большей частью своей комнаты. Даже по тем временам это была серьёзная жертва. Однако, Мария Фёдоровна уступала нам свою жилплощадь безвозмездно. Отец оплачивал только стоимость работ и материала. К концу осени работы по перепланировке комнат были в основном завершены. Во время работ мы жили тут же. У нас получилась комната в 21 м2, Марии Фёдоровне осталось примерно 8,5 м2. Хочется надеяться, что обретённый таким образом относительный покой, хотя бы частично компенсировал Марии Фёдоровне весьма существенную потерю жилой площади.
Соседи по квартире № 7. Дамы слева направо: Анна Николаевна, Мария Фёдоровна, сестра Аанны Николаевны (предположительно). Мужчины: сын Ленчевских и Клавдий Антонович
Небольшую комнату справа от входной двери занимала худощавая белокурая женщина лет тридцати с маленькой дочкой. Кажется, мать звали Нонной Николаевной, а дочурку – Валей. Нонна Николаевна держалась со всеми просто и открыто, пожалуй, она получила в своё время «пролетарское» воспитание. Мне кажется, с учётом нашей семьи, состав жильцов стал чем-то весьма типичным для ленинградских коммунальных квартир конца 30-х годов. Естественно, что главенствующая роль в квартире сама собой утвердилась за коренными петербуржцами, в первую очередь, за Анной Николаевной. Это было, как мне кажется, большим благом в целом для квартиры и, в частности, для нас, недавних деревенских жителей. Все вопросы в квартире решались без каких-либо разногласий, а соседство культурных воспитанных людей на остальных действовало облагораживающе. Как и следовало ожидать, городская жизнь начиналась для нас непросто – семья сильно нуждалась. Отец, смазчик-моторист на фабрике «Веретено», получал в месяц около 700 рублей. Мама устроилась на расположенный недалеко хлебозавод и зарабатывала около трёхсот. Насколько я могу представить сейчас тогдашние цены, их общего заработка могло бы хватить на жизнь только одного взрослого человека, и то без особых излишеств. Нас же было шестеро. Родителям приходилось считать буквально каждую копейку. Семья питалась очень скудно. В моей памяти остался наш основной рацион того периода: хлеб и макароны, которые сначала отваривались, а затем хорошо поджаривались на сковородке. Мы, дети, любили посыпать макароны сахарным песком. И ещё, конечно, чай с булкой. Приобретение даже самых необходимых вещей из одежды или домашней утвари было проблемой и становилось возможным только после накопления необходимой суммы за счёт урезания других расходов. Хорошо, что нам не пришлось тратиться на мебель: вся обстановка в комнате, а также посуда, бельё и прочее, были перевезены из комнаты дяди Феди и принадлежали ему. Только много позже я смог понять и оценить силу духа своих родителей: сверхтяжелое материальное положение практически не отражалось негативно на их отношении к детям и на атмосфере в семье. Она для нас отнюдь не была мрачной или гнетущей, никто из детей не ощущал себя обузой. Для каждого из нас у родителей находилось тёплое слово. Возможно, частично эту их духовную стойкость можно объяснить привычкой к лишениям. В деревне мы жили немногим лучше. Но главное, безусловно, было в чувстве, которое для ребёнка в семье не менее важно, чем воздух, – в родительской любви. И хотя выражалась она по-разному (матерью нечасто и сдержанно, отцом – открыто и темпераментно), их любовь к нам была одинаково истинной, естественной. Это любовь высшей пробы. К сожалению, дети, которым выпало счастье такой любви, уже в силу её естественности, воспринимают это чувство как должное, само собой разумеющееся. Поэтому очень часто оказываются неспособными своевременно и достойно оценить его, чтобы успеть ответить родителям тем же. Хорошо ещё, если они, в свою очередь, окажутся способными на такую же любовь к своим детям. Однако, не всё в нашей семье шло гладко. Вскоре по приезде в Ленинград стало ясно, что за время своей холостяцкой жизни отец обзавёлся другой женщиной. Последовал очень нелёгкий конфликт в отношениях между родителями, в котором дети безоговорочно были на стороне мамы. Думаю, что в первую очередь именно любовь к своим детям помогла отцу в этой ситуации поступить порядочно и предпочесть, в конце концов, жизнь в семье, с детьми, соблазнительной жизни с одинокой горожанкой.
Семья дяди Гавриила
Вскоре после приезда мы всей семьёй побывали у дяди Гавриила. Он жил на Лиговке, напротив детской больницы, в большой коммунальной квартире. Просторная (около 30 м2) комната дяди была перегорожена вдоль мебелью на две части: тёмную спальню и светлую, в два окна, гостиную. Я тогда впервые увидел дядю Гаврюшу – худощавого, с большой лысиной и чёрными (под Сталина) усами, а также его жену тётю Лизу – полноватую небольшого роста женщину с простым курносым, покрытым оспинками, лицом. Дядя Гавриил работал управдомом. За громким голосом и несколько показной значительностью манер чувствовались природная доброта и расположение к детям. Тётя Лиза занимала какой-то пост в профкоме фабрики «Веретено». Как я потом узнал, именно перед её подругой не устоял мой отец. Это была женщина, что называется, «себе на уме», но с весьма доброжелательной манерой обращения. Уже упоминавшиеся Женя и Толя были детьми дяди Гавриила от первого брака (первая жена умерла рано). В день нашего визита они вернулись из-под Ровно, где проводили каникулы у родственников матери. Как только мы вошли, Женя выбрала для меня из привезённых ими с Украины фруктов самое большое и оказавшееся очень вкусным яблоко. Худенькая тёмноволосая Женя и долговязый рыжеватый блондин Толя были похожи на дядю Гаврюшу не только чертами лица, но и своим духовным складом. Будучи совсем разными по темпераменту, они оба были добры и отзывчивы. Эта семья, исключая трезвую и расчётливую тётю Лизу, имела, на мой взгляд, заметные признаки духовной одарённости. Женя (ровесница нашего Феди) была уже почти девушкой. В её поведении и облике, явно ощущалась нежная и чувствительная душа. Толя – озорной и подвижный подросток – в те редкие минуты, когда на него нападало соответствующее настроение, мог неплохо рисовать. Да и дядя Гавриил не был лишён художественной жилки, о чём говорит, например, его стремление приобщить к прекрасному нас, непосвящённых. Ведь именно он нашёл позднее возможность, используя относящийся как-то к нему по работе служебный фургончик, свозить всю нашу семью в Петродворец и познакомить с его чудесными фонтанами.
Школа. Первые впечатления
Подошло время детскому «контингенту» нашей семьи собираться в школы. Именно «в школы», так как, не знаю в силу каких причин, отец записал старших детей в 203-ю школу около кинотеатра «Спартак», а младших – в недавно построенную 185-ю на улице Войнова (Шпалерной). Нам предстояло идти соответственно в 10-й, 6-й, 4-й и 2-й классы. Отец не внял советам учителей дать год на адаптацию детей и записать нас в классы, уже пройденные нами в Белоруссии. Время показало, что его решение было правильным. 1 сентября 1939 года. Оно сохранилось в моей памяти как ясный, солнечный, но несколько прохладный день благодаря тому, что он был первым в незнакомой для меня городской школе. А для всего человечества эта дата навсегда осталась как день начала самой кровавой в истории войны. Но такое его значение не осознавали тогда и сами взрослые. Занятия нашего класса начинались во вторую смену. Из-за задержки, вызванной, видимо, утренними официальными мероприятиями, первая смена к нашему приходу ещё занималась, и перед закрытыми дверями школы собралась значительная группа ребят. Меня в школу никто не провожал. Лина занималась в первую смену. Знакомых среди учеников, естественно, не было. Поэтому я одиноко стоял в сторонке и поневоле наблюдал за резвящимися, кто как мог, одноклассниками. Школьной формы тогда не было, и одежда ребят представляла собой очень пёструю картину. Из мальчишек только единицы были одеты более или менее нарядно – светлые рубашки, шерстяные штаны и куртки, добротная обувь. Большинство же из нас были в дешёвой хлопчатобумажной одежде «немарких» тонов, напоминающей рабочие спецовки, и в летней обуви. Девочки выглядели поаккуратней. Большинство из них были в тёмно-синих сатиновых халатиках, из-под которых у некоторых выглядывала нарядная одежда. Такие халатики на девочках младших классов были практичны и очень тогда распространены. Неприятно резануло мой слух употребление некоторыми мальчишками нецензурных слов. В нашей деревне подобное считалось неприличным даже среди взрослых. Наконец, мы пришли в свой класс, и наша учительница, стройная и миловидная Вера Павловна, сразу начала рассаживать нас по партам. Было заметно, что пары она подбирала, как правило, «по одёжке», и посадила меня с девочкой очень скромно одетой. Испытанное мной при этом лёгкое разочарование да ещё обида в тех редких, а потом и вовсе прекратившихся случаях, когда мою фамилию искажали до не престижного – «лапоть», – это, пожалуй, все, оставшиеся в моей памяти, отрицательные эмоции за два года учёбы в 185-й школе. Казалось бы, деревенская повадка, нередко проскакивающие в речи белорусские слова, как и в целом мой довольно тщедушный вид, вполне могли ввергнуть в искушение кого-нибудь из одноклассников подразнить или поиздеваться. Но ничего больше из неприятного я не могу припомнить: то ли ребята вели себя настолько корректно, то ли причина в моей врождённой незлопамятности. Правда, русской речью дети в нашей семье, овладели очень быстро и уже к началу второй четверти своим говором практически не отличались от остальных учеников. Труднее было маме – в её речи белорусские слова и обороты иногда встречались, хотя и она говорила без специфического белорусского акцента.
Тётя Валя. Освобождение дяди Феди
В один из осенних дней 1939 года нас посетила Валентина Александровна Константинова. Когда я, вернувшись с гулянья, застал её у нас, то она меня просто ослепила. Такой эффектной женщины мне встречать ещё не приходилось. Красивого овала лицо, прямой точёный нос, выразительные глаза, скрывающиеся при смехе в забавных и симпатичных раскосых щёлочках – всё это сразу обращало на себя внимание. Впечатление усиливали умелая косметика, модная одежда, подчеркивавшая стройную фигуру, едва уловимый запах духов. А её непринуждённые манеры, находчивая, часто остроумная речь, вместе с доброжелательным вниманием к собеседнику сразу располагали к себе почти окончательно. «Почти», поскольку по мере общения с В.А., начинала закрадываться мысль о том, что такое красивое и блестящее не может быть только добрым и простым, что в нём скрыты и острые шипы, которых следует поостеречься. В общем, у нашей будущей тёти был достаточно противоречивый характер, не лишённый широты и чувства долга, но и с заметной долей расчётливости и даже, пожалуй, коварства. В.А. работала секретарём на той же фабрике, что и дядя Федя. Роман между ними завязался задолго до его ареста и, со слов мамы, не заканчивался браком лишь из-за останавливавшей дядю разницы в их возрасте (около двадцати лет). Арест Ф.К. подверг их отношения серьёзной проверке. Валентина Александровна в течение всего периода заключения дяди вела себя как надёжный и верный друг, что в то время требовало мужества не на словах, а на деле. Вот и в этот день В.А. зашла за отцом, чтобы вместе отнести передачу для Ф.К. в «Кресты». Они взяли меня с собой. В моей памяти от посещения этого знаменитого узилища остались бесконечно длинная стена из красного кирпича, небольшое, набитое людьми, помещение с очередью к зарешеченному окошку, да ещё сильный, с порывами, холодный ветер. Хотя тюрьма как таковая вызывала во мне отрицательные эмоции, постигнуть трагизм дядиного положения я был не способен. Со слов взрослых я знал, что Ф.К. не виноват, и у меня была детская уверенность, что раз это так, то с ним разберутся и освободят. Поэтому, когда 13 декабря 1939 года дядя Федя прямо из тюрьмы пришёл к нам, я воспринял это как должное. Только много позже дошло до меня, каким это был день для него, что оставил он за своей спиной в тот вечер. Фактически можно считать, что он вернулся с того света. Серое, измождённое, отвыкшее улыбаться лицо, шапка-ушанка, овчинный полушубок (я узнал полушубок отца), армейский вещмешок за плечами. Все это было довольно обычными деталями облика мужчин того времени. Лишь в жестах и облике дяди Феди проглядывала некая странноватая неуверенность. Неуверенность человека, как бы опасающегося того, что всё происходящее с ним сейчас – это сон, который может оборваться в любое мгновение. Я сразу ощутил к дяде уважение и сочувствие, к которым, однако, в данный момент примешивалась доля смущения и лёгкого раскаяния. Это было связано с тем, что некоторое время назад я и Лина, откалывая от большого куска сахара с помощью молотка и ножа маленькие кусочки, сделали заметную вмятину на гладкой поверхности дядиного буфета. Меня это сильно огорчило тогда, и вот теперь стало неудобно перед дядей: ведь мы испортили красивую и не принадлежащую нам дорогую вещь. Отмечу, что в моём смущении не было страха наказания – во мне говорила совесть. Подобные, подчас довольно болезненные, уколы совести из-за допущенных мной небрежности, невнимания или неоправданной грубости, составляют одну из важных черт моего мироощущения. Голос совести – мой главный советчик и контролёр. Поступать против него для меня неприемлемо, иначе мне грозит серьёзный душевный дискомфорт. Будет ли спокойна совесть? – ответ на этот вопрос подспудно имеет для меня решающее значение при выборе и оценке как конкретных своих поступков, так и в целом линии поведения в сложной жизненной ситуации. Я согласен с Н.А. Бердяевым, который сказал: «Совесть есть глубина личности, где человек соприкасается с Богом». От дяди не укрылись скованность моего поведения и то, что я как бы сторонюсь его. «Коля, ты что, боишься меня?» – спросил он с лёгким удивлением, усилив этим моё смущение. Чувствуя, что объяснения сейчас будут совсем некстати, я только отрицательно покачал головой. С этого вечера началась для Фёдора Казимировича новая жизнь.
Незваный гость
Наше родное государство рабочих и крестьян, продержавшее в тюрьме полтора года невинного человека, не чувствовало после этого перед ним никаких обязательств. О восстановлении Ф.К. на прежней работе и возврате былого жилья не могло быть и речи. Кем смог устроиться дядя после тюрьмы я не знаю, а вот полученную им после долгих мытарств комнату увидеть пришлось, проявив при этом несвойственную мне в подобных вопросах инициативу. Что-то меня влекло к дяде Феде. Конечно, я не был в состоянии тогда оценить его ум и душевные качества, но какие-то черты в облике и поведении Ф.К. затронули мою детскую душу. Наверно, сыграли свою роль в этом и разговоры родителей о дяде Феде, которые возникали между ними довольно часто. Из этих разговоров, в частности, я и узнал, что Ф.К. получил комнату в доме на Сапёрном переулке. Потом мне как-то попались на глаза его адрес с номером телефона. И у меня возникло сильное желание его навестить. В конце концов, в один из летних воскресных дней 1940 года, не сказав ничего родителям, я позвонил Ф.К. из автомата. Ответил кто-то из соседей, затем к телефону подошёл дядя Федя. На высказанное мною желание его навестить, он коротко ответил: «Приходи». В его голосе я не уловил ни удивления, ни раздражения. Найдя нужный дом на Сапёрном, я зашёл в глубокий колодец двора, в дальнем левом углу которого находилась дверь на лестницу. Квартира, насколько мне помнится, была на втором этаже, лестница тёмной, тесной, запущенной. На мой звонок дверь открыл дядя Федя, и я очутился в обширной кухне, вдоль стен которой размещалось не менее десятка столов. Несмотря на солнечный день, под потолком горела электрическая лампочка, так как единственное небольшое окно в углу помещения пропускало мало света. Около некоторых столов сквозь дымку от коптящих керосинок и примусов просматривались женские фигуры. Поздоровавшись со мной за руку, Ф.К. молча провёл меня наискосок через кухню в узкий коридор, перспектива которого терялась в темноте. Дверь в дядину комнату оказалась в самом начале коридора, сразу за кухней. Напротив неё, справа, судя по слышному журчанию воды, была дверь в туалет. Комната дяди поразила меня своими крохотными размерами. Мебель, плотно заполнявшая комнату, мне была хорошо знакома. Вдоль правой стены, сразу у двери, стоял буфет с упомянутой вмятиной, затем диван, напротив которого, у небольшого окна, занимая почти целиком пространство между диваном и противоположной стеной, находился стол. Свободным в комнате оставался только небольшой проход вдоль буфета. Забирая от нас мебель, Ф.К. оставил нам свой письменный стол и кровать. В его новой комнате их разместить было невозможно. В комнате было темновато, накурено, играл патефон. За накрытым столом сидели Валентина Александровна и незнакомый мне мужчина. Несмотря на то, что мой визит был совершенно некстати (мне это стало понятно гораздо позже), я был встречен приветливо. Меня усадили за стол, В.А. поставила передо мной тарелку с куском торта и чай. После нескольких обычных вопросов о делах дома и в школе я был оставлен один на один с тортом, а взрослые вернулись к прерванному моим приходом занятию – стали танцевать. Навсегда врезались в память звучная мелодия и начальные строки очень понравившейся мне тогда песни:
Растут фиалки, ароматные цветы Под старым дубом у красавицы-реки. Их дуб лелеет, от бури бережёт... и так далее.
Затем глубокий грудной голос Изабеллы Юрьевой сменил глуховатый чарующий тенорок Леонида Утесова:
У меня есть сердце. А у сердца песня, А у песни – тайна, Тайна – это ты...
Мне здесь всё пришлось по душе: и песни, и танцы, и, конечно, торт. Я чувствовал себя в этой компании взрослых спокойно и с интересом наблюдал за танцующими дядей и тётей. Однако, внутренний голос подсказал мне, что долго оставаться здесь будет невежливо, и я, расправившись с тортом, довольно быстро распрощался. Меня не удерживали. Ф.К. и В.А. поженились вскоре после выхода дяди из тюрьмы.
Учёба впроголодь. Самовоспитание
Жизнь нашей семьи постепенно вошла в городскую колею. Родителям, хотя и с большим трудом, удавалось как-то сводить концы с концами. Мы не голодали, но в школе уже к середине занятий мне есть очень хотелось. О бесплатных школьных завтраках тогда не было и речи, брать еду из дома не было принято, а воспользоваться школьным буфетом мешало отсутствие денег. Очень хорошо помню, как текли у меня слюнки на кусок пирога с капустой, стоивший тогда 15 копеек, не говоря уже о других вкусных вещах на витрине буфета. Но, как и большинству ребят, мне приходилось превозмогать голод, стараясь при этом не показывать вида. Некоторым ученикам, то ли наиболее голодным, то ли менее гордым (их, правда, были единицы) выдержки не хватало, и они обращались к кому-нибудь из ребят, уплетающих за обе щёки что-то лакомое, с просьбой: «Цекни!» Уплетающий давал откусить или отщипывал голодному маленький кусочек. Нас родители ещё в деревне приучили к тому, что просить еду пристало только у них. У других (даже у бабушки, тем более, у дедушки) просить еду стыдно. Даже если её тебе предлагают, то следует на первый раз отказаться, поскольку предложить могут просто из вежливости, надеясь, что ты, тоже из вежливости, не воспользуешься этим приглашением. И только после повторных предложений можно не торопясь, сохраняя достоинство, взять кусок или сесть за накрытый стол. Корни этих правил следует искать, наверное, в несытой крестьянской жизни, когда на счету был каждый рот и каждый кусок. Видимо, потому, что моя душа в своей основе крестьянская, эти правила укоренились в моём сознании быстро и навсегда. В своей жизни я не припомню случая, чтобы к кому-либо я обратился (даже в блокаду) с просьбой дать мне поесть или поделиться куском. Кроме, разумеется, матери, а в последующем к жене. Попрошайки мне всегда были несимпатичны, как и люди, которые, едва усевшись за стол, начинают, не сдерживаясь и не обращая внимания на окружающих, накладывать себе на тарелку и поедать всё, что их наиболее привлекает. У первых не хватает самоуважения, у вторых – уважения к окружающим. Люди обоих этих категорий не только плохо воспитаны, они к тому же, как правило, большие эгоисты. У них мало выдержки, а потому они всегда ненадёжны. Пожалуй, с возраста 9–10 лет во мне начал зарождаться процесс самовоспитания. С этого времени я стал критически оценивать своё поведение, манеры и ощутил потребность стремиться к их улучшению. При чтении книг меня стали интересовать детали поведения героев не только в критических, но и в бытовых ситуациях, в повседневном общении. Бывая в гостях, я замечал, как взрослые держат себя за столом, как пользуются столовыми приборами, как управляются, например, с куском мяса, селёдки или с пирожным, и старался это усвоить и делать правильно. Однако, условия моей жизни (как дома, так и потом в училище) не очень способствовали подобной шлифовке манер и выработке необходимого и важного умения держаться в любом обществе естественно и непринужденно. Только годам к тридцати я смог более или менее сносно справиться с этой проблемой.
Федя – курсант. Квартиранты
Наш первый учебный год в Ленинграде подошёл к концу. Его окончание школа отмечала торжественно в расположенном поблизости Доме писателей. По итогам года я был удостоен «подарка». Небольшая в светлой картонной обложке книга «Фронт» с выдавленным на ней рисунком в виде красноармейца, стоящего на куполе ДОТ’а, содержала репортажи и фотографии о недавно закончившейся советско-финской войне. Ура-патриотическое содержание книги вполне соответствовало моему тогдашнему настрою Старший брат Федя в 1940 году оканчивал среднюю школу. Трудное материальное положение семьи исключало для него возможность продолжения учёбы в гражданском вузе. Сначала Федя попытался поступить в расположенное на нашей же улице Военное инженерно-техническое училище, но не смог сдать экзамены по иностранному языку. Он отнёс свои документы в лётно-техническое училище, расположенное на улице Красного Курсанта. Это училище было двухгодичным, его выпускники получали лейтенантское звание и среднетехническое образование. Забегая вперёд, скажу, что и с этим училищем Феде крупно не повезло. В конце 1940 года новый нарком обороны Тимошенко, стремясь исправить ставшие очевидными в ходе финской кампании провалы в управлении войсками (в основном, из-за неумения высших военачальников воевать по-современному), взялся за дело, как это слишком часто у нас бывает, не с того конца. Помимо насаждения в армии драконовских порядков, было, в частности, решено выпускать из двухгодичных лётных училищ не лейтенантов, а... младших сержантов. И не только вновь поступающих, но и тех, кто уже учился, кому при поступлении сулили командирское звание. Государство и здесь, в который уже раз, показало, что оно является истинным «хозяином своего слова»: берёт его назад, когда заблагорассудится. В звании сержанта, а затем старшины Федя провоевал всю войну. Очевидно, что это совсем не то, что воевать офицером. Однако, всё это мне стало понятно много позже, а пока, навещая Федю со взрослыми (при любой погоде встречи проходили на улице, перед зданием училища), я по-мальчишечьи завидовал ему: и тому, что он уже взрослый, и тому, что он в военной форме, которая ему очень к лицу, и, совсем уж в глубине души, тому, что все признавали его красивым. Уже тогда я с грустью сознавал, что мои внешние данные не оставляют мне никаких надежд на аналогичную оценку. Желание быть высоким и красивым, как и смутный интерес к отдельным девочкам-одноклассницам, уже давали о себе знать. Но эти чувства нисколько не мешали мне глубоко любить брата. После ухода Феди в училище нас осталось пятеро в семье, однако, в нашей комнате свободнее не стало. Родители сдали «угол» двоим девушкам-студенткам Института физкультуры, и в комнате установили третью кровать. Спать мы укладывались так: я с мамой, Лёля с Линой и студентки – попарно на кроватях, папа – посреди комнаты на раскладушке. Студентки и папа лежали головами друг к другу. Иногда, чтобы поддразнить маму, отец демонстративно делал попытки дотянуться рукой до их округлых прелестей. Мама при этом «заводилась с пол-оборота». Мы, дети, конечно, шумно поддерживали её. Не знаю, какое удовольствие могла принести отцу вся эта суета. Скорее всего подобная игривость была проявлением деревенской манеры шутить. В деревне мне не раз приходилось наблюдать, как мужики со смешками и прибаутками при всём честном народе «лапали» женщин и заваливали их на брёвна или солому. Жертвы при этом, естественно, изображали яростное сопротивление (не убеждавшее, впрочем, даже меня). Окружающими эта картина воспринималась с энтузиазмом, как остроумная шутка и вызывала взрыв веселья и грубоватые подначки. Я при таких сценах чувствовал себя не в своей тарелке, испытывая смущение от столь фривольного поведения взрослых. Это, наверно, были первые отзвуки моего формирующегося отношения к «слабому полу» – чересчур ответственного и серьёзного до скучности. Я так и не научился маскировать его лёгкой, ни к чему не обязывающей болтовнёй. Попытки поддерживать «светскую беседу» ни о чём требуют от меня больших усилий, чем любой разговор на серьёзную тему. Но поскольку в житейском общении, особенно при первых контактах, необходимо умение вести речи, ни к чему не обязывающие, то мне оставалось чаще хранить молчание. Сказанное выше относится, кстати, не только к общению со «слабым полом», но вообще с незнакомыми или несимпатичными мне людьми. Игорь и Ляля
В третьем классе у меня завязалась дружба с учеником из параллельного класса Игорем Рокитянским. Игорь жил через дом от нас. Мы часто вместе шли в школу и постепенно стали интересны друг другу. Вот он был высоким и красивым, к тому же на редкость спокойным и рассудительным. Игорь, как и я, не был, видимо, способен легко и сразу завязывать дружеские контакты, и дорога в школу дала нам возможность предварительной «притирки». Довольно часто на обратном пути из школы он приглашал меня к себе домой. У родителей Игорь был один. Его отец со смуглым приятным лицом украинского «парубка» и мать – крупная симпатичная женщина, черты лица которой один к одному повторились в лице Игоря, принадлежали к интеллигенции. Жили они в небольшой комнате в коммунальной квартире на втором этаже дворового флигеля. Хотя социально и внешне мы с Игорем не соответствовали друг другу, его родители, уделявшие ему гораздо больше внимания, чем мои мне, довольно дружелюбно отнеслись к нашему совместному времяпрепровождению. У Игоря было много игрушек. Им мы посвящали основной наш досуг. Кроме того, именно Игорь научил меня играть в шахматы, что, естественно, придало нашим играм качественно новый уровень. Он же является первым человеком, отметившим мой день рождения подарком. В нашей семье, как, видимо, и в других крестьянских семьях, тогда эти дни практически никак не отмечались. 9 января 1941 года Игорь преподнёс мне маленькую пушку, стрелявшую карандашами. Честно говоря, подарком этим я был слегка разочарован, так как этой пушкой я уже наигрался у Игоря дома. Однако, имея в виду мою последующую военную профессию, нельзя не отметить «провидческий» характер подарка. Нашей дружбе не суждено было получить дальнейшего развития. Осенью 1941 года Рокитянские эвакуировались и после войны на Каляева не вернулись. В третьем классе учился ещё один человек, который оставил в моей душе чёткий и приятный отпечаток. Это была Ляля Микерова – моя первая и, как чаще всего бывает в подобных случаях, тайная симпатия. Именно с этой темноволосой, с толстой косой, чуть полноватой девочки, белое приятное лицо которой ещё больше красило всегда сохранявшееся на нём не по-детски спокойное и доброжелательное выражение, началось моё уяснение того, что человеческий род неоднороден, что девочки – это не просто обычные компаньоны наших детских игр, только чуть более пугливые и плаксивые, а совсем отличные от нас, мальчишек, существа, со своим таинственным и влекущим миром. С какого-то момента я стал смотреть на Лялю не так, как на других своих одноклассниц. Она стала мне казаться красивее, умнее, добрее, благороднее и одновременно непонятнее их. Мне представлялось, что в её словах и поступках содержится скрытый, часто относящийся именно ко мне, смысл. Это давало пищу моим детским мечтам, в которых я представлял себя тоже умным, смелым и благородным. В этих воображаемых картинах, где я совершал свои, навеянные книгами «подвиги», а добро всегда одерживало верх над злом, Ляля была моей «дамой сердца». Вряд ли она догадывалась об этом, тем более, что, когда нам случалось оказаться наедине, все мои такие заманчивые мечты и смелые мысли куда-то улетучивались, и я никак не мог сообразить, о чём с Лялей вести разговор. Поведать ей о своих чувствах я даже мысли не допускал, а все остальные, приходящие на ум речи, казались не стоящими её внимания. Тем не менее к концу третьей четверти в её отношении ко мне стала проявляться некоторая заинтересованность. Мы уже оба стали стремиться побыть друг с другом подольше, чем это определялось расписанием уроков. Когда по делам старосты класса мне приходилось задерживаться, чтобы выполнить какое-нибудь поручение учителя, Ляля охотно оставалась мне «помогать». После мы вместе возвращались домой, и это стало происходить довольно часто. Ляля жила тоже на Каляева, в доме № 3. Хорошо помню весенний день с хрустящим ледком на выложенном пудожскими плитами тротуаре и капелью с крыш. Мы с Лялей идём по солнечной стороне проспекта Чернышевского и ведём серьёзный разговор на довольно распространённую тогда среди взрослых тему о том, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной – или только любовь? Скорее всего, инициатором этой беседы была Ляля. Я вряд ли решился бы затронуть подобную тему. Кто из нас какой позиции придерживался тогда и к какому выводу мы пришли в результате этой «дискуссии», не удержалось в моей памяти. Да и до сих пор я не знаю точного ответа на этот вопрос. Взаимное влечение наше росло и могло, наверно, постепенно перерасти во что-нибудь более определённое, однако, судьба не отвела нам для этого времени. Третий класс закончился для меня неожиданно рано. В начале мая я сильно простудился после купания на Кировских островах вместе со своим двоюродным братом Толей. Ему и принадлежала инициатива того безрассудного поступка. Табель за третий класс принёс мне домой Игорь Рокитянский. Снова увиделись мы с Лялей только в конце войны, когда она вернулась из эвакуации. Я был сильно взволнован этой встречей, и мне хотелось верить, что и Ляля ей тоже обрадовалась. А может быть это была просто её обычная доброжелательность?
Мой третий класс 185-й школы Дзержинского района города Ленинграда. Апрель 1941 года. Я в верхнем ряду слева второй, а шестая – Ляля Микерова Учились мы теперь в разных школах. При редких наших случайных встречах мы, обменявшись несколькими фразами, расходились. Что-то мешало нам условиться о следующей встрече. Скорее всего, мы были ещё слишком дети, чтобы договариваться о «свиданиях». Потом наши жизненные пути окончательно разошлись. Но всё-таки и сейчас, когда мне в руки попадается фотография нашего третьего класса, я с особой теплотой смотрю на девочку слева от цифры «31» – свою первую «даму сердца». Кстати, эта фотография напоминает мне и довольно забавный эпизод, в котором фотограф попал впросак по собственной и, косвенно, по моей вине. После общего фотографирования поклассно, учителя 31 и 32 классов выделили более успевающих двоих мальчиков и четырёх девочек для отдельных снимков на «Доску почёта». Одним из мальчиков оказался я. Нас, шестерых, требовалось, видимо, уместить только на два снимка. Фотограф, разбив девочек попарно, предложил им, указывая на нас: «Ну, а теперь выбирайте себе мальчиков!». Всю непедагогичность своего шага фотограф осознал лишь после того, как обе пары девочек указали на одного и того же мальчика – более симпатичного и лучше одетого (не меня). Глядя в растерянные глаза фотографа, я даже посочувствовал ему. Выбор девочек меня не особенно задел, так как я в душе признал его справедливым. Фотографу же пришлось-таки идти напопятную и распределять нас по группам самому.
В о й н а
Пионерский лагерь.
Сразу после окончания школьных занятий родители отправили нас (Лёлю, Лину и меня) в пионерский лагерь. Лагерь был от фабрики «Веретено» и располагался в районе железнодорожной станции Пудость.
Этот снимок сделан 8 мая 1941 года незадолго до отъезда в пионерлагерь. Я между сёстрами Линой и Лёлей
Провожая нас на вокзале, отец спросил, что мне привезти в лагерь вкусного, и я, подумав, заказал ирисок. Мне уже были хорошо ясны ограниченные возможности нашего бюджета. Отцу иногда приходилось прибегать к разного рода уловкам, чтобы как-то справиться с нашими настойчивыми просьбами о чём-нибудь уж очень желанном. Мечтой моего довоенного детства был самокат .Эти незамысловатые агрегаты были у многих моих ровесников, и я надоедал отцу просьбами купить мне самокат. Стоил он тогда 30 рублей. И вот однажды тёплым весенним вечером, придя с работы, отец повёл меня покупать самокат. Обошли мы с ним немало магазинов, но самокаты, которые раньше попадались мне довольно часто, как сквозь землю провалились. Правда, когда в ходе энергичных поисков мы оказались в лавке, торгующей керосином, в мою душу закрались смутные сомнения, а там ли мы ищем? Но я верил отцу и считал, что он лучше знает, где продают самокаты. В итоге мы вернулись домой с пустыми руками. Желание иметь самокат перешло у меня в разряд неосуществимых, и я перестал надоедать родителям. Уловка отца сработала. В пионерлагере жизнь была организована неплохо, скучать нам не давали, чему способствовала ясная и тёплая погода. Это была моя первая длительная отлучка из семьи и первое знакомство с «котловым довольствием». Кормили нас, особенно по сравнению с нашей домашней пищей, обильно и вкусно. Правда, названия некоторых блюд мне были в диковинку. Разлуку с родителями смягчало присутствие сестёр. В «родительский день» (скорее всего это было 15 июня) нас навестили родители. Отец не забыл своего обещания относительно ирисок. О начале войны – официально, на построении – не помню, чтобы нам объявляли. Возможно, я пропустил это построение по каким-то причинам. Весть о нападении на нас немцев до меня дошла как слух – угрожающий и не совсем понятный. Окончательно мне стало ясно, что началась война, после того, как я случайно услышал рассказ нашего старшего пионервожатого – стройного черноволосого парня по фамилии Гордон, энергичного и толкового организатора всех наших лагерных мероприятий. Он рассказывал о своей поездке в военкомат. Там наш пионервожатый получил отсрочку от призыва и, говоря об этом, он не мог скрыть радости. Тогда это вызвало у меня недоумение. Мне казалось, что все должны так и рваться скорее на фронт. Из лагеря нас вернули с задержкой, наверное, в середине июля. Основная масса детей к этому времени была уже эвакуирована из Ленинграда. Гулять по тихим опустевшим дворам было непривычно и скучно. Город быстро принимал военный облик: окна были заклеены бумажными полосками, памятники обкладывались мешками с песком и обшивались досками, таким же способом заделывались витрины крупных магазинов. Дома запестрели указателями в виде стрел с надписями «Бомбоубежище», «Газоубежище». Во дворах нередко можно было встретить женщин-дружинниц с медицинскими сумками и красными повязками. В нижних этажах некоторых угловых зданий вместо окон появились зловещие амбразуры. В вечернем небе стали привычными диковинные поначалу аэростаты заграждения. Люди на улицах выглядели озабоченными, многие были в военной форме, ещё больше – с противогазами. В магазинах, особенно продовольственных, ощущался постепенно нарастающий ажиотаж. Наиболее искушённые жители города начали создавать запасы продовольствия и товаров первой необходимости сразу с началом войны. Хотя уже в июле было введено нормированное распределение продуктов жителям города по продуктовым карточкам, некоторое время многие продовольственные товары ещё было возможно приобрести по повышенным («коммерческим») ценам. Нам эти цены были недоступны, и создавать себе запасы продуктов мы были не в состоянии. Затруднения с питанием, которое в нашей семье и раньше не было обильным, стали нами ощущаться практически с первых недель войны. До меня это дошло следующим образом. Как-то вернувшись к вечеру с улицы проголодавшимся и не застав никого дома, я съел весь имевшийся на этот момент запас хлеба (около 1/3 буханки). При этом я думал, что родители, которые раньше уговаривали меня есть побольше, порадуются моему аппетиту. Однако, когда семья села за ужин и обнаружилось, что хлеб съеден, реакция была совсем другой. Пришлось маме специально объяснить мне, что теперь есть можно только со всеми вместе или если что-то она даст сама. С этого дня и началось для меня голодное воздержание, продолжавшееся годы.
Проводы отца. Мы остаёмся
В конце июля или в начале августа мы проводили в армию отца. Федя со своим училищем уже находился на фронте. Сборный пункт для призывников был назначен на Конюшенной площади. Провожали папу мы всей семьёй, а также оказавшийся у нас в то время мой двоюродный брат Толя. Слёз не было. Отец бодрился, мама была погружена в глубокую безмолвную печаль. Её положение было самым отчаянным: отныне она оставалась одна с тремя детьми (15, 13 и 10 лет) в громадном городе, который, по существу, был ей ещё чужим, неграмотная, без профессии, без денег, без надежды на чью-либо поддержку. Проводы закончились быстро. По команде все призывники погрузились на открытую, оборудованную скамейками, бортовую машину, и она укатила по каналу Грибоедова в сторону Невского. Небольшая невеселая толпа провожающих быстро разошлась. Я и Толя оказались вскоре на улице Восстания в небольшом кинотеатре «Агитатор». Помню, смотрели «боевой кино-сборник». Один из его сюжетов был построен на изменённой концовке очень популярного тогда фильма «Чапаев». По ходу сюжета легендарный комдив в исполнении Бабочкина не тонул в реке, а, выйдя благополучно на берег, оказывался среди красноармейцев уже наших, 40-х годов. В командирской форме, с портупеей и неизменной буркой на плечах, обаятельный Бабочкин-Чапаев обращался к красноармейцам и зрителям со страстным призывом громить фашистскую нечисть. Не знаю, как у других, а у меня это вызвало патриотический подъём. Через некоторое время после призыва отца мать получила повестку, в которой сообщалось, что мы подлежим эвакуации, и предлагалось через три дня всем явиться на сборный пункт с небольшим количеством вещей. Поколебавшись немного, мама приняла решение не уезжать из Ленинграда. Нигде на востоке у нас родных не было, а ехать с тремя детьми в неизвестность было страшней, чем оставаться. Всё-таки здесь имелось своё жильё, не терялась связь с отцом и Федей. Мы, дети, были солидарны с мамой. Наша семья не пошла на сборный пункт, и всё на этом закончилось. Властям, видимо, уже становилось не до нас. В это же время мать школьной подруги Лины – Кати, Елизавета Ивановна Соловьёва – очень добрая, отзывчивая, как-то по-особому, по-петербуржски, интеллигентная женщина – порекомендовала маме работу с оплатой чуть ли не в полтора раза большей, чем на хлебозаводе. К тому же работа была дневная, а не трёхсменная, и вполне ей по силам (проверка исправности противогазов). Мама с радостью согласилась. Однако, по мере ухудшения в городе положения с продовольствием становилось всё очевидней, что уход её с хлебозавода был большой ошибкой. В голодном городе работа на любом предприятии, связанном с продовольствием, становилась неоценимым благом, зачастую равным жизни не только своей, но и близких родственников. Это быстро поняли все, и устроиться на такую работу стало практически невозможно. Визит дяди Феди
Вернусь в начало сентября первого военного года. Наша, оставшаяся вчетвером семья, ещё могла на свои рабочую, иждивенческую и две детские карточки (13 лет Лине исполнялось в октябре) вести хотя и не сытое, но сносное существование. Однако, в неутешительных вестях с фронта, учащающихся воздушных тревогах, начавшихся обстрелах, опустевших прилавках магазинов, постоянно озабоченных хмурых лицах взрослых, всё ясней ощущалось неотвратимое приближение грозной и всеобщей беды. Хотя ожидающих нас ужасов не мог тогда представить никто, люди более осведомлённые понимали меру грозящей нам опасности. В том числе и нам четверым. Теперь-то совершенно очевидно, что, не говоря уже о большой вероятности гибели под бомбёжкой или обстрелом (которая, слава Богу, нас миновала), при тех нормах питания, которые ожидали нас в ноябре, декабре, январе, мы были обречены на голодную смерть. Спасти нас могло только чудо. И оно произошло. Правда, это станет нам понятно гораздо позже. Тогда мы никак не могли принять за таковое визит к нам, хотя и неожиданный, дяди Феди. Он заехал к нам в середине сентября. К этому времени город уже не раз подвергся ожесточённым бомбёжкам и обстрелам, и теперь даже оптимисты осознали, сколь велика опасность. Была вторая половина дня, и мы, к счастью, все оказались дома. Дядя прошёл в комнату, сел на стоящий у стола стул. Стол у нас располагался посередине комнаты. Был дядя в военной форме, но знаков различия я не запомнил. Позже я видел его старшим лейтенантом, а затем капитаном. Внешне дядя выглядел совершенно спокойным, но посеревшее лицо выдавало сильную усталость. Он внимательно посмотрел на каждого из нас, расположившихся вокруг стола, и спросил, обращаясь к маме: – Ну, Зоська, как ваши дела? Мама рассказала о предложении нам эвакуироваться и нашем решении остаться. Немного помолчав, дядя уточнил у Лёли, сколько классов она окончила, и услышав ответ, что семь классов, сказал: – Лёле надо устраиваться на работу. – Я согласна с тобой, Федя, но кто же её возьмёт, Лёле ведь ещё нет шестнадцати, – ответила мама. – А когда ей исполнится шестнадцать? – Да уже скоро, 30 сентября. – Что ж, попробую вам в этом помочь, – сказал дядя, вынимая блокнот и ручку из полевой сумки. – Подай-ка чернила, «академик», – обратился он ко мне, используя прозвище, которым как-то наградил, приятно удивлённый моей начитанностью. Я с готовностью поставил перед ним свою чернильницу-непроливайку. Набросав короткую записку и отдавая её Лёле, дядя сказал: – Иди завтра в Институт усовершенствования врачей, что на Кирочной, и передай это (он назвал фамилию). Как найти его, спросишь на проходной. Думаю, он сможет тебя устроить. Расспросив ещё маму о том, что слышно от отца и Феди, дядя уехал. В те дни звёзды, видимо, нам благоприятствовали. Лёлин визит в институт окончился успешно, и через некоторое время она уже работала на пищеблоке подавальщицей. Это и было наше спасение. Поступив на работу, Лёля стала получать рабочую карточку, а с октября Лине уже полагалась карточка иждивенческая. Наше положение с питанием поправилось заметно, так как Лёля к тому же питалась на работе. На нас троих, таким образом, приходилось две рабочих, одна детская и одна иждивенческая карточки, что для ситуации со снабжением в октябре было терпимо.
Бомбёжки и обстрелы
Если угроза голода для нашей семьи несколько ослабла, то вторая по значимости опасность – удары по городу немецкой авиации и артиллерии, начиная с сентября, нарастала день ото дня. Третья в этом ряду угроза – жестокие морозы, ещё ожидала нас впереди. Первый артиллерийский обстрел города был осуществлён немцами 4 сентября. 6 сентября фашистским самолётам впервые удалось прорваться к городу и сбросить бомбы, а 8 сентября немцы смогли подвергнуть город массированному налёту. Этот день, точнее вторая его половина, навсегда запечатлелась в моей памяти. Дикий вой и глухие разрывы бомб, отрывистая скороговорка зениток, объятое заревом пожаров небо – и не в кино, а на самом деле, дали нам полную картину того, что нас ожидает. Налёт застал меня в трамвае по дороге домой с Васильевского острова, где жила семья дяди Миши. Весной 1941 года они тоже переехали из Веркал в Ленинград. С началом налёта трамваи остановились, люди укрылись, кто где. Я оказался под аркой какого-то дома на площади Труда. Народу здесь собралось порядочно. Слышны были частая стрельба зениток и глухие удары бомбовых разрывов. Люди держались спокойно и молчаливо, лишь изредка обмениваясь короткими репликами по поводу увиденного. Кстати, вообще случаев паники среди ленинградцев мне не известно, скорее всего, их и не было в течение всей войны. Беду ленинградцы встречали всегда очень сдержанно. Налёт длился около часа. Урон городу был нанесён заметный: по дороге домой (трамвай продолжил своё движение после отбоя «воздушной тревоги») были видны разрушенные бомбами здания в окружении пожарников и бойцов местной обороны. Однако, самой страшной для ленинградцев потерей в этот день были сгоревшие Бадаевские склады, на которых хранились основные запасы продовольствия. Не могу сказать точно – в тот же день или несколько позже – мощная бомба попала в соседний с нами дом № 13. К тому времени мы ещё не перестали реагировать на сигналы воздушной тревоги. Они транслировались по радио воем сирены. Мы четверо, а также Клавдий Антонович с Анной Николаевной, по этому сигналу спустились по чёрному ходу на первый этаж в квартиру дворника. Сидели на его кухне вокруг стола, горел электрический свет. Клавдий Антонович спокойно читал газету. На этот раз стрельба была особенно близкой и ожесточённой. От выстрелов зениток, размещённых на крыше Большого дома (Управление НКВД) звенело в ушах. Периодически раздавался вой падающих бомб и последующие глухие удары. Вдруг в какой-то момент возникший вой стал резко нарастать, достигая ошеломляющей, пронизывающей силы. Ожидая неотвратимое, все в ужасе оцепенели, только Лёля проворно нырнула под стол. Рядом раздался громоподобный удар, земля заходила, дом ощутимо качнулся. Через несколько мгновений, осознав, что мы уцелели, Клавдий Антонович и я выскочили во двор и сразу оказались, как в молоке. Всё вокруг было заполнено плотным туманом, ничего нельзя было различить на расстоянии вытянутой руки. Как оказалось позже, это была пыль от рухнувшей в наш двор глухой стены дома № 13. Бомба попала в его флигель, превратив последний в высокую кучу развалин. По дошедшим до нас сведениям, при этом взрыве погибла одна семья, которая оставалась в квартире. Остальные жильцы флигеля спустились в бомбоубежище и, хотя его при взрыве засыпало, обошлось без жертв, так как людей своевременно откопали. С 8 сентября воздушные налёты и артиллерийские обстрелы начали осуществляться немцами ежедневно и по несколько раз, и они надолго стали неприятным, но неизбежным элементом жизни блокадного города. Сам собой замер учебный процесс в большинстве школ. В нашей школе это произошло как-то незаметно и совсем не оставило следа в моей памяти. Уже в то время проблемы выживания настолько нас поглотили, что отодвинули учёбу в школе в ряд гораздо менее важных проблем, чем, например, «отоваривание» карточек или добыча дров для появившейся в нашей комнате «буржуйки». Кстати, именно развалины дома № 13, в который в течение войны попало ещё несколько бом и снарядов, оставив целым только выходящий на улицу фасад, стали основным местом, где я добывал дрова. В основном для этой цели шли деревянные, обитые дранкой перегородки, но годилась и всякого рода мебель, брошенная хозяевами. Быстро и неотвратимо наш быт погружался в суровый и примитивный блокадный уклад с гнетущим чувством голода и холода, без электричества, воды, канализации, с коптилкой и буржуйкой, дающими копоти и грязи едва ли меньше, чем света и тепла, с постоянными угрюмыми сумерками в комнате из-за забитых фанерой окон.
«Подкармливание». Поездка в Дибуны
На своей работе Лёля освоилась довольно быстро. И уже в ноябре, когда снабжение продуктами по карточкам почти прекратилось, и мы стали по-настоящему голодать, она приспособилась приносить нам в дамской сумочке завёрнутую в бумагу кашу и другие остатки от рациона раненых. В институте усовершенствования врачей в войну был госпиталь. В последующем Лёля подружилась с одной из медсестёр госпиталя, Павловой Валентиной Яковлевной, и способ нашего «подкармливания» был рационализирован, а также принял более систематический характер. Мы приобрели два небольших (литра по полтора) бидончика. Один из них находился у нас дома, другой Лёля постепенно заполняла на работе объедками. В назначенное ею время мы (Лина или чаще я) приходили с пустым бидончиком на проходную в главном здании или к забору института (место тоже оговаривалось заранее) и ждали Валю. Через некоторое время появлялась её высокая фигура в накинутом на плечи пальто, под которым скрывался заполненный бидончик. Мы быстро подходили друг к другу и менялись бидончиками. Круглое лицо Вали с полными губами и коротким прямым носом (тогда ей было лет 18) выдавало владевшее ней напряжение. И впрямь, задержи её в этот момент кто-нибудь из охраны, Вале грозили бы крупные неприятности. Однако, потом, освоясь, мы вели себя более спокойно, так как поняли, что женщины-охранницы смотрели на наши манипуляции с бидончиками скорее с сочувствием, чем с желанием проявить служебное рвение. Видимо, они принимали Валю за нашу старшую сестру, которая делится пайком со своей семьёй. Подобное заблуждение вполне объяснимо, так как наверняка у многих женщин из охраны были свои семьи, тоже крайне нуждающиеся в поддержке, и с которыми они делились своим, далеко не лишним, куском. Что касается нас, то надо сказать со всей определённостью, что именно это «подкармливание» дало нам возможность выжить в самое тяжёлое время первой блокадной зимы.
Это Валя Павлова, которая помогала нам спастись от голода в первую блокадную зиму. Фотография от 15 октября 1944 года
В конце октября отец смог каким-то образом нам сообщить, что его часть находится в Дибунах, и даже передать приблизительные координаты, дающие возможность его там найти. Подробного описания не пропустила бы военная цензура. Мама сразу собралась туда, с ней напросился и я. В прифронтовую зону требовались пропуска, но получить их нам было делом безнадёжным, и мама решила ехать «на авось». Мы рано двинулись в путь, и сначала на трамвае, потом на попутной машине смогли добраться почти до прифронтового КПП, располагавшегося, видимо, где-то в районе Песочной. Шофёр выгрузил нас и ещё несколько человек, не имеющих пропусков, вне видимости пропускного пункта с тем, чтобы мы имели возможность обойти его стороной. Это нам удалось, однако, трудная дорога сначала по пересеченной местности через густой кустарник, а затем долгий путь по шоссе стоили нам больших усилий. Добрались мы до Дибунов во второй половине дня измотанными до крайности. Надежда на предстоящую встречу с отцом придавала нам силы. Переходя от дома к дому, останавливая попадавшихся навстречу военных, мы приступили к поискам, готовые к тому, что это будет непростым делом. Но из расспросов стало очевидным самое худшее. Отца в Дибунах не было. Утром этого дня его подразделение перебросили в другое место. Осознав это, я испытал первое в своей жизни по-настоящему глубокое и мучительное разочарование, отголоски которого живы в моей душе до сих пор. А каково было в этот момент бедной маме, и вообразить себе невозможно. Оглушённые крушением своих надежд, мы побрели обратно. Обходить КПП не было ни сил, ни желания, и нас там задержали. Уже затемно на попутной машине мы были доставлены в город, в отделение милиции, откуда, довольно быстро разобравшись, нас отпустили восвояси. Изнурительная и удручающая своим результатом поездка закончилась все-таки дома, и это было единственным светлым пятном по началу столь многообещающего дня. С отцом мы увиделись месяца полтора спустя, при совсем других обстоятельствах.
Голод и его жертвы
К концу ноября главные блокадные фурии – голод, бомбёжки с артобстрелами и мороз полностью вступили в свои права и во всю свирепствовали в городе. Как ни мыкалась Лина целыми днями в очередях при участии моём и мамы, нам ничего не удавалось выкупить из причитающихся по карточкам продуктов, кроме хлеба. Ежедневно на наши четыре хлебные карточки мы выкупали чуть больше половины хлебного кирпичика (750 грамм) – то тёмного и тяжёлого как глина, то сухого и белого как бумага. На завтрак мама отрезала каждому из нас по половине хлебного ломтя, толщина которого была около 1–1,5 см, остальное запиралось на ключ. Мы пили «чай» (как правило, кипяток), максимально растягивая этот процесс, отщипывая хлеб буквально по крошкам и стараясь подольше продержать его во рту наподобие конфеты. На обед нам выходило по целому ломтю, на ужин снова по половине. Если от Лёли нам ничего не перепадало, то, как и в завтрак, второй частью «меню» был кипяток. Заветные бидончики поступали к нам не каждый день и большей частью неполными. Раненые теперь почти ничего не оставляли на столах, и, как правило, в бидончик попадали лишь подгоревшие остатки, образующиеся при чистке кухонных котлов. Тем не менее, именно эти жалкие крохи поддерживали в нас способность двигаться и как-то бороться за своё существование. Чувство голода, однако, как зубная боль, поглощало все мысли и чаяния. Его уже невозможно было обмануть какой-нибудь эрзац-едой (типа лепёшек из горчицы, кипятка или просто жеванием «вара» – битумной смолы). На этой стадии чувство голода нельзя было заглушить, даже наевшись до отвала. Оно, как движущийся маховик, обладало большой силой инерции и сразу начинало снова мучить человека, как только он прекращал есть. Перед голодом пасовал даже материнский инстинкт. Мама позже признавалась, что, когда в самые жестокие блокадные дни Лину, пропадавшую в очередях, заставали бомбёжка или артобстрел, то мамина первая мысль была не о Лине, а о продуктовых карточках, которые могли пропасть, если с ней что-то случится. Это не говоря уже о других родственных чувствах. Например, я и Лина по отношению друг к другу были вполне нормальными братом и сестрой, однако, при делёжке еды, которую обычно проводила мама (её предприятие блокадной зимой не работало), мы ревниво следили за каждым куском, боясь, что другому достанется лучший. Поэтому во избежание обид делёжка чаще всего проходила испытанным солдатским способом: один из нас отворачивался и говорил, кому отдать кусок, на который указывала мама. Напор голода подвергал жестокому испытанию и наше чувство честности. Конечно, наши «грехи» касались только еды. Чаще всего у меня они заключались в том, что, выкупив в магазине положенный по карточкам хлеб, я по дороге домой съедал второй довесок. В ту пору в булочных хлеб отвешивали с максимальной точностью, и по этой причине выкупаемая пайка имела иногда два, а то и три довеска. Съедался, как правило, больший из них. Если довесок был один, то его съесть наглости уже не хватало, так как пайка без довеска слишком явно свидетельствовала о допущенной нечестности. Были, правда, проступки и посерьёзней. Например, иногда мне удавалось разными ухищрениями открыть отделение комода, в котором мама запирала хлеб. В этом случае я или Лина аккуратнейшим образом, стараясь, чтобы оставленный кусок не претерпел заметных изменений, отрезали тоненький (примерно пять миллиметров) кусочек, делили его и тут же съедали. Поскольку я навострился комод не только открывать, но и закрывать, то наша непорядочность оставалась для мамы тайной. А возможно, она просто не хотела её замечать. Совершая подобные поступки, мы испытывали угрызения совести, но чувство голода было сильнее. Представление о том, насколько далеко может завести голод по этому скользкому пути, даёт следующий эпизод, за который мне по-настоящему стыдно до сих пор. Холодным декабрьским вечером к нам зашёл дядя Гавриил. Уже было темно, в нашей комнате горела коптилка, мы втроём (мама, Лина и я) сидели вокруг топившейся буржуйки, ловя её благодатное тепло. Худощавый и в лучшие времена дядя Гавриил сейчас выглядел совсем скелетом. На обтянутом кожей лице выделялись только скулы да усы, однако, взгляд глубоко запавших глаз был ясен и прям. Было очевидно, что он, как и все в Ленинграде, кто существовал только тем, что выдавалось на карточки, давно и жестоко голодает. Намереваясь эвакуироваться по начавшей уже функционировать «Дороге жизни», дядя принёс взятый ранее на время папин кожух. Лишь много позже я смог уразуметь, насколько высоко порядочным должен был быть человек, чтобы не только почувствовать себя обязанным вернуть такой предмет и в такое время, но и сделать это, невзирая на голод и мороз. Ведь овчинному, очень приличного вида кожуху (чёрный дублёный верх, каракулевый воротник) в те трескуче-морозные дни просто не было цены! За него на базаре можно было получить продуктов на одну, а то и на пару недель сносной жизни. И невозврат кожуха можно было легко списать на превратности блокадного времени. Но дядя предпочёл этому спокойную совесть. Повесив кожух на вешалку, которая тогда находилась в комнате сразу у двери, дядя Гавриил даже не присел. Он выглядел озабоченным и не был расположен у нас задерживаться, что, как мне показалось, явилось для мамы немалым облегчением, поскольку «угощать» дядю было совершенно нечем. Наши хлебные пайки к этому времени уже были съедены, и в доме не оставалось ни крошки съестного. Стоя в пальто и шапке у печки (в её топку входила труба от буржуйки), дядя справился у мамы об отце и Феде, о работе Лёли. Он сказал, что Толя эвакуирован из Ленинграда вместе со своим ремесленным училищем. Вскоре дядя ушёл. Едва за ним закрылась дверь, меня как будто что-то толкнуло: я вскочил, бросился к кожуху и запустил руку в карман. В его грубой холщовой ткани рука нащупала твёрдый предмет. Выдернув с ним руку, я обомлел: Господи, кусок сахару! И приличный – почти с мой кулак! Свою находку я с торжеством показал всем и отдал маме. Не успели мы прийти в себя от радости, как раздался звонок. Три звонка – к нам! Звонкам тогда электричества не требовалось: на лестничной площадке у двери была ручка, дёрнув за которую, приводили в действие колокольчик в прихожей. Вернулся дядя Гавриил! Войдя в комнату, он не медля залезает рукой в карман кожуха и, ощутив пустоту, с отчаянием восклицает: – Здесь был кусок сахару! – и после короткой паузы, твердо продолжает: – Вы его взяли! – Никакого сахару мы не видели, – не менее твёрдо произносит мама. Я и Лина безмолвствуем. Дядя продолжал уверять, что в кармане сахар был. И то требовал, то умолял нас вернуть его. Но эти увещевания, которые, казалось, могли тронуть и камень, не принесли результата. При нашем с Линой попустительстве мама стояла на своём: «Сахару не было!». Судя по собственному состоянию, могу сказать, что каждый из нас троих в ходе этих томительных препирательств стал осознавать, какую низость мы совершаем. Однако, враньё зашло уже слишком далеко, и, чтобы его признать, ни у кого из нас не доставало мужества. Глубоко огорчённый, обиженный и раздосадованный дядя нас покинул. Как потом оказалось, навсегда. О постигшем дядю Гавриила и его дочь Женю трагическом конце в городе Свердловске я уже писал. В начале 1942 года он и Женя эвакуировались. За пару дней до наступления Нового года Женя навестила нас. Бедняжка была совсем прозрачной. Однако, она с обычной своей милой улыбкой и даже некоторым задором предложила нам с Линой выбрать то, что у неё находится в варежке. Я указал на правую руку, и, сняв варежку, Женя достала один детский пригласительный билет на Новогодний утренник, который должен был состояться в Технологическом институте. И хотя, когда настал срок, идти так далеко в одиночку не отважились ни я, ни Лина, это отнюдь не умаляет красоты и благородства Жениной доброй души, способной даже в такое поистине мертвящее время на столь трогательное движение. Тётя Лиза осталась в Ленинграде. Устроившись на своей фабрике «Веретено» поближе к профкому, она смогла без особых проблем пережить блокадную зиму. О том, что разъединило их семью в такое трудное время, можно только догадываться. Судя по всему, трезвость и расчётливость, присущие тёте Лизе, в тяжелой обстановке трансформировались в эгоизм, оказавшийся сильнее её чувств к дяде, а тем более к падчерице. Возможно, добрый характером, но гордый и самолюбивый дядя Гавриил не захотел мириться с положением «нахлебников» тёти Лизы, которыми он и Женя могли себя ощущать. Тем более, если тётя, чего доброго, не нашла в своей душе достаточно такта, чтобы не попрекнуть их этим. Но, повторю, это лишь догадки, основанные на моём понимании характеров членов этой семьи. В жизни всё могло случиться по-другому: и проще, и одновременно глубже, не столь прямолинейно. Да и вряд ли все поступки, даже собственные, можно объяснить словами. Вот, например, что заставило меня написать об этом злосчастном куске сахару? Ведь в этом эпизоде в весьма нехорошем свете предстаю не только я, но и очень дорогие мне люди – мама и Лина. Чтобы оправдаться, облегчить душу, продемонстрировать сверхоткровенность? Если и это, то в очень малой степени. Проще и, наверное, глубже, пожалуй, вот что: это было! Из четырёх участников эпизода в живых остался я один, и мне не хочется своим умолчанием лукавить перед памятью о дяде Гаврииле. Чувство вины перед дядей и стыда за своё подло-трусливое поведение в этом инциденте я ношу в своей душе всю жизнь. Причём с возрастом оно не слабеет, а даже усиливается. Оглядываясь назад, я не могу больше припомнить в своей биографии столь откровенно позорного поступка. Правда, и голодать так сильно мне больше уже не приходилось. Тяжело складывались дела и у наших соседей по квартире. Нонна Николаевна с дочкой как-то незаметно исчезли сразу с началом войны. Клавдий Антонович, Анна Николаевна и Мария Фёдоровна, как и мы, не стали эвакуироваться. Их положение было гораздо хуже нашего: на троих две карточки служащих и одна иждивенческая. В декабре 1941 и январе 1942 года эти бумажки правильнее было бы назвать путёвками на тот свет. С ноября по январь включительно, когда выкупить можно было только хлеб, им, троим старикам (хотя вряд ли каждому из них было немногим больше шестидесяти лет), доставалось его вдвое меньше, чем нам. С 20 ноября по 25 декабря 375 грамм хлеба на всех в день, и больше ничего! Запасы, если они у них и были, к этому времени полностью иссякли. Конечно, будь наши соседи помоложе и поразворотливей, какое-то время им можно было бы ещё продержаться, продавая вещи. Но поначалу, видимо, им это не позволяла гордость, а потом они быстро ослабели настолько, что и в магазины могли ходить с трудом. Анна Николаевна стала просить маму (или Лину) выкупать их хлебную норму. Это, надо сказать, была хоть и вынужденная, но высшая степень доверия, которое мог оказать один человек другому в те блокадные дни. Их порция хлеба была столь невзрачна, что ни у кого из нас троих не поднималась рука даже на третий довесок. Мама рассказывала, что, входя к ним с хлебом, она чаще всего заставала всех троих вокруг обеденного стола. Принесенную пайку Анна Николаевна сразу делила на три части. Две откладывала на стоящую посередине стола тарелку, оставшуюся снова делила на три. Каждый брал себе кусочек – 40 грамм хлеба! – и не торопясь съедал. Оставшиеся части были для наших соседей соответственно обедом и ужином, проходившими у них в строго назначенное время. Так, сохраняя до последних дней выдержку и достоинство, ушли из жизни сначала Клавдий Антонович, а затем и Мария Фёдоровна. Перед своей кончиной она позвала к себе маму, поблагодарила за помощь и подарила две большие столовые ложки из серебра для неё и Лины, а для меня – чайную, тоже серебряную. На всех ложках немецким готическим шрифтом были выгравированы чьи-то инициалы. Анна Николаевна каким-то чудом (возможно, в этом сыграла роль её предвоенная тучность) смогла продержаться до весны 1942 года, потом приехавшая из Лисьего Носа невестка увезла её к себе. Там Анна Николаевна умерла в 1943 году. Хочется надеяться, что судьба оказала ей последнюю милость, и весть о гибели на фронте единственного сына не успела омрачить её последних дней. Так закончила свой земной путь типичная петербургская семья, одна из многих тысяч, – жертв ленинградской блокады. Настоящую цену этим потерям стали осознавать много позже, когда, лишившись почти всех своих коренных жителей, город утратил присущий ему особый и неповторимый петербургский стиль. Стиль, соединяющий в себе холодноватую столичную корректность на западный манер с русской открытостью и дружелюбием. После войны материальные потери восстановить оказалось возможным, а о духовных потерях, тем более, такой тонкой, как присущий городу стиль, даже и не задумывались. И его не стало. Теперь уже ясно, что не стало навсегда. Даже несмотря на то, что все мы из ленинградцев неожиданно стали петербуржцами.
Ранение отца. Блокадные будни
В начале января 1942 года от папы пришло известие, что он ранен и находится в госпитале. В письме был указан адрес (сейчас это улица Политехническая, 26). Мама со мной вновь пустилась в неблизкий путь. На этот раз по заснеженным, заваленным сугробами ленинградским улицам. Было морозно и ветрено. Яркое солнце слепило глаза, привыкшие к полумраку нашей комнаты, окна которой были почти сплошь забиты фанерой. После долгой дороги пешком (всю блокадную зиму общественный транспорт в городе бездействовал) мы оказались перед зданием, имевшим вид старинной казармы и характерный вход, особенностью которого был нависающий полукруглый балкон, поддерживаемый двумя колоннами и двумя полуколоннами. Войдя в сравнительно небольшой, заполненный людьми квадратный вестибюль и оглядевшись, мама стала обращаться к уходящим после свидания со своими родными раненым с просьбой вызвать отца. Он появился довольно быстро в надетом на бельё сером больничном халате, на костылях, с забинтованным правым бедром. Отец сильно исхудал, но держался бодро. Честно говоря, я не припомню, чтобы, обнимая и целуя отца, я испытывал тогда естественное для такого случая чувство острой радости. Видимо, голод и усталость сильно приглушили мои эмоции. Едва отыскалось место, где отец смог прислониться к стене. Он так и простоял всё свидание на одной ноге. Ранен был отец во время воздушного налёта немцев на их колонну. Пуля задела кость бедра и воспламенила ватные штаны, вследствие чего отец получил также сильный ожог. Разговаривая с мамой, отец достал из кармана халата и протянул мне бумажный свёрток. Развернув бумагу, я увидел небольшой (грамм 100) кусочек хлеба. – Это тебе, – сказала папа. Я сразу впился в хлеб зубами, и через мгновение куска не стало. К своему стыду тогда я даже не подумал о том, что это наверняка был дневной паёк отца, и он остаётся без хлеба на весь оставшийся день. То, что отец оказался недалеко от нас и в относительной безопасности, намного улучшило наше моральное состояние. К тому же и Федя нам прислал письмо, из которого можно было понять, что курсантов их училища отозвали с фронта. Теперь он находится в посёлке Рассказово Куйбышевской области, где заканчивает своё обучение. Так что пока за них можно было не беспокоиться. В то беспросветное время это были щедрые подарки судьбы. Вспоминая бесконечные блокадные вечера, я чаще всего вижу маму, Лину и себя, сидящими в пальто вокруг стола, на котором мерцает и колеблется слабый огонёк коптилки. За пределами стола комната погружена во тьму. Неразличимы даже окна, так как они затянуты светомаскировочными шторами из плотной чёрной бумаги. Ужин, который по большей части состоял из кипятка и тоненького ломтика хлеба, ни в коей степени не мог утолить постоянно гложущее чувство голода. Напиленный днём со страшными потугами мной и Линой запас полешек из деревянного лома, который я притащил из разрушенного дома, кончился. Буржуйка мгновенно остывает, и комнату быстро заполняет сковывающий холод. Я и Лина, напрягая глаза, пытаемся отвлечься чтением. Не умеющая читать мама просто сидит за столом в полудрёме. Передо мной лежит том Салтыкова-Щедрина, собранием сочинений которого, изданных в начала века, я как-то «разжился» в одном из разбомблённых домов. Читаю «Пешехонскую старину» и недоумеваю, как это обитатели Пешехонья, ведя размеренную сытую жизнь, с обильной едой и повальным послеобеденным сном среди знойного лета, могли не замечать и не ценить такого благополучия, даже быть чем-то ещё недовольными?! Соответственно не очень воспринимался и сарказм великого сатирика по поводу такого образа жизни, ибо я от души завидовал пешехонцам, имеющим возможность есть сколько угодно и когда угодно. В начале одиннадцатого вечера часто Лина и я выходили встречать возвращавшуюся с работы Лёлю. Ей было страшно идти одной по тёмным и пустынным улицам, на которых только снежные сугробы слегка рассеивали ночную тьму. Холод пробирался до костей, однако, надежда на то, что Лёля принесёт с собой что-нибудь съестное, подбадривала. Ожидания, как правило, нас не обманывали, в ридикюле сестры мы частенько находили завёрнутую в бумагу порцию каши. Встретив Лёлю, мы сразу укладывались спать: на одной кровати мама и я, на другой – Лина с Лёлей. С началом зимних холодов и голода мы перестали покидать квартиру во время воздушных налётов и артобстрелов. Наутро Лёля уходила рано, часов около семи. Иногда сквозь сон я слышал, как её трудно будила мама. Начинать новый день и вылезать из постели на холод очень не хотелось, но мама заставляла нас подниматься и браться за дела. Разжигали буржуйку, кипятили воду и, позавтракав, чем было, Лина отправлялась в магазин, я – за дровами, мама – за водой на Неву. Умывались мы далеко не каждое утро, а что касается бани, то в ней мы не были в течение всей первой блокадной зимы. Уж если дело дошло до таких прозаических деталей, то могу для интересующихся сообщить, что, поскольку водопровод и канализация бездействовали, для малой нужды нам служило ведро, а для большой – какой-нибудь укромный уголок всё того же дома № 13. Подобное положение с гигиеной было практически у всех ленинградцев. Нередко можно было видеть на улицах, в очередях у магазинов людей со следами сажи и копоти, особенно заметных в носу и ушах. У большинства из них были измождённые, обтянутые сухой, землистого цвета кожей лица с набухшими под глазами и распространявшимися на скулы водянистыми мешками. Иногда напротив, от неумеренного потребления воды с целью заглушить голод лицо человека сильно отекало. Своей округлой формой такие лица напоминали нормальные, но их неестественная одутловатость и студенистое дрожание щёк вызывали неприятное, смешанное с брезгливостью, чувство. В сильные морозы, а они той зимой ослабевали очень редко, большинство прохожих платками или шарфами закрывали лица полностью, оставляя лишь щели для глаз. У некоторых для этой цели были сшиты шерстяные маски, наподобие тех, что сейчас используются бойцами ОМОНа или бандитами. Ослабевшие, исхудавшие, подчас в самой несуразной, но способной лучше сохранять тепло, одежде, измученные холодом и голодом люди передвигались по улице медленно и осторожно, как в полусне. Но прохожих были единицы, только у магазинов наблюдались компактные кучки застывших в унылом ожидании людей. Если к этому добавить развалины разрушенных домов, колдобины на тротуарах и сугробы с человеческий рост на улицах, нередко попадающиеся навстречу санки или куски фанеры с завёрнутым в простыню скорбным грузом, с натугой влекомые выбеленными морозным инеем полуживыми людьми, непривычные для ленинградской зимы яркое, слепящее солнце, глубокое синее небо и жестокий мороз, то это и будет оставшаяся в моей памяти обобщённая картина блокадного города. Дополню её ещё одним конкретным эпизодом. В конце января или в начале февраля к нам неожиданно добралась семья дяди Михаила: тётя Доня и дети – Саша и Майя. Как им удалось преодолеть расстояние до нас с 10-й линии Васильевского острова, объяснить невозможно, настолько все трое были слабыми и истощёнными. Старшего сына Антона с ними не было. Мы усадили их, едва державшихся на ногах, вокруг затопленной буржуйки. Немного придя в себя, тётя Доня тихим без эмоций голосом сообщила, что дядя Миша на фронте, а Антон несколько дней назад умер от голода. При этом у неё не показалось ни слезинки, не говоря уже о Саше и Майе, всё внимание которых было приковано к тому, как мама засыпает в кастрюлю пшено, чтобы сварить кашу. После того как всё содержимое мешочка оказалось в кастрюле, они не могли оторвать от неё глаз. Когда каша была готова, мама разложила её в три глубокие тарелки. Получились довольно внушительные порции. Тётя Доня, однако, попросила кипятку. Они все трое залили водой кашу до самых краёв тарелок, создавая себе тем самым иллюзию, что еды стало ещё больше. Излишне говорить, что образовавшаяся жижа была съедена ими до последней крупинки, а тарелки вылизаны. Было заметно, что наши гости не насытились, однако, их сразу потянуло в сон. Когда через пару часов они проснулись, оказалось, что лицо тёти Дони пришло в то разбухшее состояние, о котором я писал выше. Не помню, как они ушли от нас. Позже, холодным весенним днем, я провожал тётю Доню, Сашу и Майю в эвакуацию. Тётя Доня была очень слаба и несколько раз замирала на своих узлах, теряя сознание. Было очень мало надежды, что она выдержит дорогу, но и другого выхода у них не оставалось. В последующем, однако, война обошлась с этой семьёй достаточно милостиво: все они вернулись в Ленинград к демобилизовавшемуся дяде Мише.
Встречи с отцом
К весне 1942 года встал на ноги отец. Один день он даже провёл с нами дома, в увольнении. После выписки из госпиталя его на некоторое время определили в батальон выздоравливающих, располагавшийся на территории теперешней Артиллерийской академии (сразу за Литейным мостом справа, если идти от улицы Каляева). Я частенько бегал повидать отца, благо свободного времени у меня было достаточно: школы ещё не работали, а вопрос с заготовкой дров уже отпал. Вспоминая свои визиты к отцу, я больше всего поражаюсь тому факту, что ни один из тех случайно попадавшихся мне солдат, к которым я, подбегая к забору или к открытому окну первого этажа, обращался с просьбой: «Дяденька, вызовите, пожалуйста, рядового Лапцевича из батальона выздоравливающих», – ни разу не отказал мне. Несмотря на то, что выполнить мою просьбу было нелегко: территория и здания Академии раскинулись на целый квартал и на поиски человека требовалось немало времени и усилий, отец всегда узнавал о моём приходе. Видимо, тоскуя о близких, солдаты делали всё, чтобы помочь увидеть своих тем, кому представлялась такая возможность. В одну из таких встреч я рассказал отцу, что школы начали формировать классы на летние месяцы с тем, чтобы не учившиеся из-за блокады ребята могли вспомнить и повторить материал прошлого учебного года. Соответственно, мне надлежало идти в группу учеников третьего класса. Папа внимательно посмотрел на меня и сказал: «Сынок, может быть, ты пойдешь в группу 4-го класса? А осенью запишешься в 5-й и восполнишь потерянный год? Как, сможешь?». В ответ я с сомнением пожал плечами, однако, передал отцовское пожелание маме. Его реализация осложнялась тем, что именно 4-й класс по существующему тогда порядку завершал так называемое начальное образование и предполагал сдачу нескольких экзаменов. Чтобы разрешить мне обойти этот класс, для дирекции, очевидно, требовались более веские причины, чем просто желание (во всяком случае, это требовало хлопот, в которых мама была неопытна). Пойти же на этот шаг «нелегально» мы не решились. В начале лета отца из батальона выздоравливающих перевели в строевую часть, располагавшуюся в посёлке Рыбацкое. Мы и там наладились его навещать, как правило, по двое, но ездил я к отцу и самостоятельно. Похоже, что его, хорошо знавшего лошадей (как и любой крестьянин в то время) использовали в полку в качестве ездового. Во всяком случае в наши приезды мы встречали его, как правило, на повозке. В один мой самостоятельный приезд (дело было уже близко к вечеру) отец отвёл меня в их казарму – двухэтажный деревянный дом с подъездом посредине, в комнатах которого были оборудованы нары. Я с удовольствием устроился на отцовском месте и вскоре уснул. Через некоторое время отец меня разбудил и протянул большой, еще тёплый, кусок кочана отваренной капусты. Несмотря на отсутствие хлеба, я с аппетитом лопал отцовское угощение, наблюдая одновременно при свете коптилки за тем, как отец и ещё трое солдат за низким грубо сколоченным столом азартно играют в карты. Игра, видимо, шла по-серьёзному, потому что, разбудив меня утром, отец дал мне пачку денег (около двухсот рублей) со словами: «Передай это маме, но не говори ей, что я играл в карты». Часть дороги к трамвайной остановке мы прошли вместе. Проходя мимо солдатской столовой, отец зашёл туда и через короткое время вынес мне небольшой ломоть хлеба с маслом. Думаю, это была немалая доля его завтрака.
Эту фотокарточку отец прислал с фронта в июне 1942 года
Отец использовал малейшую возможность нам помочь. Однажды мама и Лёля вернулись от него с двумя громадными кочанами капусты, которые отец сумел как-то приберечь. У мамы с Лёлей не оказалось тогда с собой ни подходящей сумки, ни сетки, и тащить тяжёлые кочаны в руках было очень неудобно. Когда Лина и я вскоре собрались к отцу, мама снабдила нас на всякий случай сеткой. Увидев её в моих руках, отец грустно усмехнулся и сказал: «Нет, детки, на этот раз капусты не будет».
Снова учимся. Прощание с отцом
В сентябре 1942 года занятия в ленинградских школах возобновились. Воздушные налёты и артобстрелы города продолжались, однако я не помню, чтобы они как-то особенно мешали учебному процессу. Как и голод, бомбёжки и обстрелы стали для ленинградцев, хотя и неприятной, но неизбежной частью повседневной жизни, чуть ли не обыденностью. Свой новый учебный год Лина и я начали в школе №188. Здание прежней нашей школы получило повреждения от бомбёжки. 188-я школа занимала здание дворцового типа на чётной стороне улицы Чайковского, посредине между проспектом Чернышевского и Потёмкинской. Уже много лет это здание занимают другие организации. Из прежних моих соучеников в нашем 4-м классе оказался лишь Боря Баженов из дома №3 по улице Каляева (с Борей мы вскоре сдружились), да несколько знакомых девчонок из прежнего параллельного класса. С одной из них, Майей Лютовой, связан мой первый, если можно так сказать, «рыцарский» поступок. В один из перерывов Майя, очень толковая девчонка с независимым характером, повздорила с нашим же одноклассником Архаровым, рослым и довольно плотным на вид пареньком, который к тому же верховодил в группе таких же, как он, хулиганистых подростков. Должен заметить, что такого рода ребята всегда вызывали у меня чувство отторжения. Мне претило их бахвальство, вероломство, способность унижать слабых и заискивать перед сильными, неуважение к учителям и старшим, блатной жаргон, матерщина и так далее. Будучи по натуре миролюбивым, не способным поднять руку на слабого, я опасался и сторонился этих шакальих стаек. Однако, они чувствовали мой внутренний протест, и я нередко ловил на себе их косые взгляды. Начало ссоры я не ухватил, только оглянувшись на девчоночий крик, увидел, как Архаров колотит Майю шваброй. За ним стояло ещё несколько подростков из его «шайки». Майя, полулёжа на парте, пыталась отражать удары ногой в валенке. После нескольких мгновений внутренней борьбы «рыцарство» во мне победило страх. Я встал перед Архаровым и, глядя ему в глаза, сказал: «Перестань, она же девчонка!». Драчун сначала опешил, однако потом ударил меня. Я не ответил на удар, но, не опуская глаз, продолжал стоять между ним и Майей. Так мы смотрели друг на друга ещё некоторое время, затем Архаров развернулся и ушел вместе со своими «приспешниками». Инцидент был исчерпан, оставив у меня чувство недовольства собой из-за того, что я не решился ответить ударом на удар, а также досады на окружавших нас ребят, которые никак не выразили своего отношения к происшедшему. Как ни в чём не бывало, все разошлись и занялись каждый своим делом. В последующем отношения в классе наладились, и мы жили дружно. Архаров больше в класс свою «шайку» не приводил, а после четвёртого класса и вовсе пропал из школы. Нашим классным руководителем была Татьяна Петровна Назарова – ещё молодая, приятная на вид и добрейшей души женщина. Удивительно, как после всех ужасов блокады в человеке могло остаться столько доброты и мягкости. Этими её качествами мы, к сожалению, нередко злоупотребляли, по-детски не ценя доставшееся нам задаром сокровище. До сих пор в моей душе живут нежность к этой редкого характера женщине, которая органически была не способна не только сердиться, но даже правдоподобно притворяться рассерженной, а также сочувствие к её трудной доле нести в себе столько ничем не защищённой доброты. Сожалею, что не осталось её фотографии: довоенная традиция фотографировать школьников классами возобновилась лишь в 1946 году. Сохранилась, правда, моя похвальная грамота за 1942–1943 ученый год, на которой есть и её подпись. 14 октября 1942 года Лина и я поехали к отцу в Рыбацкое. Долго нам пришлось бродить по посёлку под обильным холодным дождём, пока, наконец, Лина разглядела сквозь серую влажную пелену отцовскую повозку. Ей почти всегда удавалось увидеть отца первой Мы недолго постояли втроём под каким-то навесом. Отец был грустен. Чувствовалось, что времени у него в обрез. «Детки, ко мне больше сюда не приезжайте, завтра нас переводят в другое место», – сказал он, целуя нас на прощанье. Я и Лина понуро смотрели вслед удалявшемуся отцу, пока его повозка не скрылась за завесой дождя. На душе было тоскливо, мы оба уже хорошо понимали, чем грозит это расставание, но старались гнать от себя дурные мысли.
«...убит ...похоронен...»
8 ноября, проходя дома по коридору, я услышал на лестнице истошный вой. Открыв дверь и заглянув в лестничный пролёт, я увидел Лину, которая с громким плачем медленно поднималась по лестнице, держа в одной руке конверт, а в другой какой-то листок. «Папу убили-и-и!» – закричала она, увидев меня. Я смотрел на небольшую, в половину тетрадного листа, бумажку, видел в ней слова: «...Лапцевич Василий Казимирович... убит... похоронен в районе Шереметьевского парка...», понимал их смысл, но то, что моего отца уже не будет никогда, в сознании не укладывалось. Моя детская душа отталкивала от себя это трагическое известие. Ей больше подходила призрачная надежда, что всё написанное – результат ошибки, которая в конце концов обязательно разъяснится. Смерть отца осознавалась мной постепенно. Соответственно этому таяла надежда, что извещение может быть следствием канцелярской путаницы, мысль о которой подавали нам некоторые, желая утешить. Не берусь описывать горе мамы, скажу только, что держалась она стоически, отдавая все силы заботам о семье. В 48 лет личная жизнь для нее закончилась, дети стали единственным смыслом её существования. Думаю, будет справедливым сказать, что в целом мы её радовали больше, чем огорчали. Гибель отца стала трагедией для нашей семьи, лишила её опоры, нанесла духовной жизни каждого из нас невосполнимую потерю. Она отодвинула на неопредёленно-длительное время возможность выбраться из душившей нас нужды, ранее связываемую с возвращением отца. Крохи, которые получали мама и Лёля за свой ежедневный, без выходных и отпуска, 12-часовой тяжёлый труд и мизерная пенсия за погибшего отца едва покрывали расходы на отоваривание продовольственных карточек. Мама к этому времени работала санитаркой в госпитале на Суворовском проспекте, там же Лёля работала подавальщицей. Концы с концами удавалось сводить с огромным трудом, но я не помню в семье уныния, не говоря уже о панике или отчаянии. Атмосфера в доме отнюдь не была гнетущей: мы, дети, ощущали достаточную долю любви и заботы, чтобы жизнь не казалась слишком жестокой. Надо, конечно, отдать должное мужеству и упорству нашей мамы, которую не смогли сломить свалившиеся на нас невзгоды, хотя сделали её молчаливой и погружённой в себя. Она трудилась изо всех сил. И семья выжила наперекор всему. Спасибо тебе, мама! Некоторое время спустя мы узнали, как погиб отец. Помогла в этом наша достаточно редкая фамилия, по которой один из лежавших в госпитале раненых, бывший папин сослуживец, случайно определил маму. Он рассказал ей, что в день гибели 30 октября 1942 года отец был назначен для охраны колодца. Перед заступлением на пост, по словам сослуживца, они с отцом хорошо пообедали, им даже удалось выпить свои фронтовые «сто грамм». Так что ушёл нести службу отец в хорошем расположении духа. В это время немцы затеяли сильный артиллерийский обстрел наших позиций, используя при этом шрапнельные снаряды. Это снаряды, начинённые множеством металлических шариков. При разрыве такого снаряда на определенной высоте близлежащая местность поражается смертоносным «дождём». Одним из них и был сражён отец. Несколько пуль-шариков попало ему в грудь, убив мгновенно. Это всё, что осталось в моей памяти из рассказа мамы о гибели отца. К сожалению, мама не оставила себе никаких данных об этом драгоценном свидетеле, и след его, разумеется, затерялся. Мои последующие попытки найти сослуживцев отца, состоявшиеся почти 30 лет спустя, вывели меня на Спиридонова Николая Николаевича, бывшего начальника штаба 103 стрелкового полка. Отца он не помнил, но указал существенную деталь: в октябре 1942 года их полк располагался в посёлке Старопаново. Теперь этот поселок входит в Красносельский район Петербурга. 103 стрелковый полк никогда не дислоцировался в районе поселка Синявино-1 Кировского района Ленинградской области, где, в ответ на мой запрос ранее, было определено место захоронения отца по данным Центрального архива Министерства Обороны (город Подольск). Именно рядом с посёлком Старопаново находился массив Шереметьевского парка. В наши дни от этого массива осталась небольшая часть под названием «Парк Александрино», в районе которого, согласно извещению о смерти захоронен отец. В итоге ещё одного цикла переписки мной был получен следующий документ от Кировского РВК города Ленинграда: «На основании извещения занесён в Памятную книгу красноармеец Лапцевич Василий Казимирович, 103СП, 85СД, 30.10.42 убит, похоронен на воинском кладбище посёлка Дачное».
Санкт-Петербург, Дачное. Декабрь 2003 года. Воинское захоронение. Здесь покоится прах и моего отца
Замечу, что воинское кладбище посёлка Дачное – это ближайшее к парку Александрино воинское захоронение. Таким образом прах отца обрёл свой официальный, близкий к действительности, адрес. А на одной из могильных досок, установленных на воинском захоронении в посёлке Синявино-I, осталась надпись: «Рядовой Ланцевич В.К.». Но это уже скорее память не об отце, а о халатности безымянного чиновника из архива МО. Заканчивая свой рассказ об отце, стоит сказать о том, каким он остался в моей памяти. Как мне кажется теперь, отец по натуре был добрым и мягким человеком, более склонным довольствоваться тем, что жизнь даёт сама, чем напрягаться, как, например, дядя Федя, в попытках добиться от жизни возможно большего. Не было у него и напускного апломба дяди Гавриила. В общении в семье и с близкими (в другой обстановке мне его видеть не пришлось) отец был прост, демократичен, склонен к юмору с налётом лёгкой иронии преимущественно крестьянского колорита. Правда, с началом войны эта лёгкость и даже некоторая беззаботность обращения покрылись заметным слоем грусти. Он был неглуп и не простак, даже скорее с хитрецой, которая, впрочем, вполне уравновешивалась свойственным его характеру слегка поверхностным подходом к окружающей действительности. Отец отнюдь не был строгим в вопросах нравственности, однако несомненно, что семья у него была на первом месте, и свой долг перед ней он исполнял честно. Нас, детей, он нежно любил, был по отношению к нам снисходителен и отходчив. В некоторых вопросах, например, нашей учёбы, отец, в отличие от мамы, проявлял повседневное внимание. Он, правда, никогда не контролировал то, как мы готовим домашнее задание, но почти ежедневно справлялся о полученных оценках. Помню, одно время он даже ввёл поощрение в виде 15 копеек за каждую пятёрку (тогда оценку «отл.») в наших дневниках. Подозреваю, что его неискушённая крестьянская душа придавала излишне большое значение похвалам, которые, как правило, звучали в наш адрес на школьных родительских собраниях. Однако, вполне понимаю радость отца по поводу того, что его дети получают образование, хорошо учатся и вселяют надежду на лучшее будущее. С мамой у него отношения были не столь безоблачны. Он был на три года моложе и внешне симпатичней мамы, к тому же легкомысленнее её, что давало маме немало оснований для ревности. Но эти трения не выходили за пределы обычного семейного выяснения отношений. Бывало, родители ссорились и в нашем присутствии. В этом случае мы, как правило, были на стороне мамы, интуитивно ощущая, что она больше отца нуждается в нашей поддержке. Сказанное выше, конечно, далеко не исчерпывает всего светлого и дорогого, что сохранилось об отце в моей памяти. Но, по-моему, и этого немногого достаточно для того, чтобы можно было с чистой совестью заключить: Василий Казимирович Лапцевич до конца выполнил свой долг перед семьёй и Отечеством. Низкий ему поклон!
«Штаб-трубач»
Учёба в четвёртом классе требовала от меня не очень много усилий, что подтверждает справедливость отцовского совета относительно пятого класса. Время было трудное, хотя прорыв в январе 1943 года и ослабил удавку блокады. Не прекращающиеся обстрелы, бомбёжки и голод продолжали держать на грани выживания и учителей, и учеников. В такой обстановке, пойди я сразу в пятый класс, мои пробелы в знаниях вполне могли быть списаны на «форс-мажорные» обстоятельства, а то и вовсе пройти незамеченными. И всё же я не жалею об этой неиспользованной возможности. Почему-то именно учёба в четвёртом классе отпечаталась в моей памяти наиболее ярко и живо. Там появились у меня товарищи, с которыми дружеские отношения сохранялись долгое время и после школы: Вася Петров, Вова Шабров, Женя Ландышев, Боря Баженов, Кира Затовко. Через двоих последних я позже подружился с вернувшимся из эвакуации Виталием Серебряковым, который в 1946 году предложил мне поступать вместе в Ленинградское военно-морское подготовительное училище. Так что пропусти я четвёртый класс, жизнь моя, возможно, сложилась бы по-другому. Но другая жизнь – это неизбежно и другие окружающие тебя и идущие с тобой по жизни люди. Значит – другие друзья, другая жена, другие дети и, наконец, другие внуки. Об этом не хочется даже думать! От добра – добра не ищут. Весной 1943 года в нашей школе появились двое интеллигентных на вид красноармейцев, которые, как оказалось, были музыкантами из оркестра Ленинградского фронта. Не знаю по чьей инициативе – скорее всего, завуча Любови Адольфовны и военрука Преклонского – эти двое музыкантов взялись вести в школе кружки барабанщиков и горнистов. Желающих заниматься в кружках поначалу оказалось много. Только из нашего класса записалось пять человек. Однако, с началом занятий пошёл быстрый отсев: у одних оказались проблемы с чувством ритма, другие утратили интерес после первых занятий, некоторым не давалась нотная грамота (предельно элементарная). Мне же игра на сигнальном рожке и на пионерском горне далась буквально с первых попыток. Губы и язык у меня почему-то без всяких усилий складывались в положение, соответствующее той или иной ноте. Это удивило даже нашего симпатичного руководителя. Но ещё непонятнее тот факт, что игрой на этих немудрёных инструментах больше никто из ребят так и не смог овладеть, хотя некоторые из них очень старались. Так я стал в школе единственным горнистом. Барабаном овладели многие. «Это мой штаб-трубач», – говорил про меня военрук. Когда летом школа выехала на огородные работы и вела жизнь по лагерному распорядку, я подавал на сигнальном рожке все необходимые сигналы от подъёма до отбоя. Такая звучная деталь воинского порядка тешила самолюбие нашего, не лишённого тщеславия добряка-военрука, в прошлом, по его рассказам, лихого кавалериста. В глубине души не чужд чего-то подобного был и «аз грешный». За это однажды мы оба жестоко поплатились, прилюдно оказавшись, выражаясь фигурально, в глубокой луже. Собственно, ради того, чтобы на своём горьком опыте наглядно подтвердить справедливость сентенции: «не заносись!», я и завёл этот рассказ. Наш школьный отряд питался в столовой вместе с отрядами других школ, работающих на полях того же совхоза. От нашего жилья (девочки жили в деревянной постройке, мальчики – в палатках) до столовой идти требовалось более километра по пыльной просёлочной дороге. Ходили строем, часто с песнями, под командой военрука. Перед столовой строй останавливался, я выходил вперёд, играл сигнал «на обед», после чего ребята по одному заходили в столовую. В один солнечный, жаркий и ветреный день мы подошли к столовой чуть раньше, чем отряд из другой школы. Завидев его, наш военрук, конечно, не мог упустить возможность показать свой «товар» лицом. Он подал команду: «Строевым!» и мы старательно затопали ногами, подняв при этом густое облако пыли. Чётко остановив строй перед входом в столовую, военрук, с видом «знай наших», скомандовал: «Горнист, выйти из строя!». Я с возможно доступной мне выправкой исполнил эту команду и встал с сигнальным рожком в руке на крыльце столовой, лицом к застывшему по стойке «смирно» строю. Отряд из другой школы, остановившийся без особого шика перед столовой сбоку от нашего, не без любопытства наблюдал за разворачивающимся действом. «Играть сигнал «на обед»!» – последовала мне новая команда. Я поднял рожок, прижал к губам его мундштук, подул... И, о ужас! Из рожка вместо всем знакомой простенькой, но милой мелодии раздалось какое-то хрюканье, курлыканье и бульканье. Пересохшие на солнце, обветренные, не «размятые» губы не слушались меня. Рожок, несмотря на все мои усилия издать нужные звуки, вышел из повиновения. Краем глаза я видел остолбеневшего военрука, вытянувшиеся лица ребят своей школы, появляющиеся ухмылки на лицах соседей и одновременно отчаянно боролся с взбесившимся рожком, продолжавшим оглашать окрестности прерывистым неблагозвучным рёвом. Наконец, придя в себя, военрук скомандовал: «Отставить сигнал, в столовую справа по одному шагом марш!», куда, не чуя под собой ног, понуро побрёл и я. Несколько дней жгло меня чувство стыда за понесённое унижение, которому подвергся я и, по моей вине, военрук, а также в какой-то степени ребята нашей школы. Не будешь же объяснять всем, что с подобным воздействием на губы солнца и ветра я сам столкнулся впервые. Независимо от причин, я подвёл всех и считал себя заслуживавшим всеобщего осмеяния. И готов был принять его, смирив своё самолюбие. Но к чести военрука и ребят от них не последовало в мой адрес даже намёка на упрёк или насмешку. Все сделали вид, будто ничего не случилось.
Об учителях
В пятом классе у нас появилась другая классная руководительница – Софья Павловна. Добрейшая Татьяна Петровна в нашей школе больше не работала. Софья Павловна относилась к тому типу учителей, в подходе которых к ученикам преобладают не эмоции, а трезвый расчёт. Она держала с нами строгую дистанцию и, экономя свою душевную энергию, хвалила отличившихся без теплоты, но и провинившихся ругала без злости. Однако, не делила явно учеников на плохих и хороших. Впрочем, по независящим от нас причинам (введение раздельного обучения), и Софья Павловна была в моём классе руководителем только год. Значительно дольше, с пятого по седьмой класс включительно, вела у нас математику Анна Павловна Полковникова – не крупная сухощавая женщина с неброским, но запоминающимся лицом. Оно привлекало внимание как странноватым смешением в нём азиатских и европейских черт (раскосый разрез глаз, выдающиеся заметно скулы и при этом тонкий с горбинкой нос, продолговатый овал щёк), так и характерной асимметрией общего рисунка лица, особенно бросающейся в глаза при повороте головы. На этом лице я не помню улыбки. Лишь изредка, при кратких, но веских и всегда справедливых, комментариях ответов учеников Анна Павловна позволяла себе лёгкую усмешку. В её манере держаться, ровной и суховатой, ощущались достоинство и сильный характер. В моём сознании эта учительница как-то отождествлялась с представлением о самой математике – науке строгой, цельной и непреклонно-справедливой. По-моему, в подобном слиянии образа педагога с изучаемым предметом одинаково сильно выражаются и мастерство учителя, и секрет заинтересованности учеников. К математике мы все относились с большим почтением и занимались добросовестно. Тем более, располагая к тому же прекрасным учебником Киселёва. Анна Павловна имела обыкновение, завершая очередной раздел, давать на уроке для быстрого решения задачки, содержащие, помимо пройденного материала, ещё и некий, выражаясь по-современному, тест на сообразительность. Затрудняя решение задачи, он как бы ещё и провоцировал ученика на лёгкий, но неверный путь. Естественно, многие из нас старались выполнить задание первым, и главным моим соперником в этом деле был аккуратный, обстоятельный и толковый Борис Галкин. Хотя сейчас я никак не могу отнести себя к числу быстро соображающих людей, тогда какое-то свойство ума помогало мне часто быстрее других находить ключ к решению предлагавшихся задач.
Б л о к а д а с н я т а
Последние обстрелы
Осенью 1943 года участились артиллерийские обстрелы центра города. Видимо, немцы хотели этим компенсировать сокращение воздушных налётов из-за теряемого ими господства в воздухе. Мне хорошо запомнился обстрел, во время которого один из снарядов взорвался в самом начале Литейного проспекта около «Большого дома». В это время я находился у Бориса Батенова, здесь же был и Кирилл Затовко. Оба они жили в одной квартире на третьем этаже дома № 3 по улице Каляева. Комната Бориса имела выходящий на улицу большой светлый эркер, и мы, услышав близкий разрыв, метнулись к окнам. Перекрёсток улицы Каляева и Литейного, а также выходящая на улицу Каляева часть «Большого дома» были нам видны, как на ладони. Бросилось в глаза полное отсутствие людей, не было даже часового, который обычно прохаживался вдоль первых двух домов на противоположной стороне улицы (часть «Большого дома» и тюрьмы при нём). Другой часовой обычно охранял «Большой дом» со стороны Литейного проспекта, третий был на улице Войнова. Вдруг у угла «Большого дома» показался ползущий человек, на спине его растекалось бурое пятно. Это был красноармеец, скорее всего, один из часовых. Добравшись до выходящей на Каляева двери «Большого дома», человек стал слабо стучать в неё рукой. Двери открылись сразу и раненого быстро затащили внутрь здания. Другой запомнившийся мне артиллерийский налёт непосредственно на наш район застал меня прямо на улице. К его началу занятия в школе закончились, и я с Васей Петровым и ещё одним Петровым – Борисом – шли домой вместе. Обстрел уже начался, но разрывы раздавались довольно далеко. Выбежав на средину улицы Чайковского сразу после одного из них, я увидел в стороне у Фонтанки падающую на улицу стену дома и клубы пыли. Такое расстояние нам показалось вполне безопасным, и мы спокойно двинулись по домам. Дойдя втроём до проспекта Чернышевского, Вася Петров и я свернули направо к своей улице Каляева. Борис Петров пошёл дальше по Чайковского. Взрывы тем временем начали раздаваться всё ближе. Не успели мы дойти до своей улицы, как после одного из них, прозвучавшего, как нам показалось, совсем рядом, на перекресток из улицы Каляева полетели булыжники мостовой. Пришлось нам минут десять переждать налёт под аркой ближайшего дома. Затем взрывы стали удаляться, и мы благополучно добрались домой. Подойдя к своему дому, я увидел развороченную крышу стоявшего напротив (тогда одноэтажного) здания типографии имени Володарского, а также свежий след от угодившего в дом № 13 очередного снаряда. Наш дом отделался потерей всех оставшихся к этому времени стёкол. Назавтра мы узнали о ранении Бориса Петрова и ещё одного ученика из нашей школы. Борис вернулся в класс лишь весной. По его рассказу он получил ранение от снаряда, разорвавшегося перед зданием пожарной команды, почти сразу после того, как расстался с нами. Борису одним осколком перебило ступню, второй, к счастью, очень небольшой осколок, попал в подбородок. Помощь ему была оказала быстро бойцами пожарной команды, и всё окончилось для него относительно благополучно. Остались лишь лёгкое прихрамывание при ходьбе и небольшой шрам на подбородке. Эти два обстрела осенью 1943 года, а также бомбёжки в сентябре 1941 года, во время первой из которых сгорели Бадаевские склады, а при другой попала первая бомба в дом № 13, оставили в моей памяти наиболее глубокий след из всех эпизодов боевого воздействия немцев на город. Видимо, именно в ходе их угроза моему существованию была наиболее реальна, что и отметило моё подсознание. На уровне же сознания я был ещё настолько глуп, что даже не испытывал в ходе бомбёжек и обстрелов страха, хотя я отнюдь не могу отнести себя к числу людей, которым это чувство незнакомо. С артиллерийскими обстрелами города, как, пожалуй, и с воздушными налётами, было покончено лишь после окончательного снятия блокады 28 января 1944 года. В течение десяти дней до этого в городе была слышна почти непрерывная артиллерийская канонада, и мы догадывались: готовится наступление. После Курской битвы уже никто не сомневался, что разблокирование Ленинграда и победа в войне – дело времени и, конечно, новых жертв. И вот свершилось, блокаде конец! После информации Ставки и объявления приказа Верховного главнокомандующего жители города высыпали на улицы. Народ устремился к Неве на салют – тогда для нас ещё совсем новое зрелище. Было непривычно видеть на улицах массу людей, а ещё более – выражение радости на их измождённых лицах. Чувствовалось, что с их плеч свалилась огромная тяжесть. День был зимний по-ленинградски: затянутое сплошной облачностью небо, мягкий сыроватый морозец, серый без тени свет, стать которому совсем сумеречным не давало матовое сияние недавно выпавшего снега. Детская поверхностность мешала мне осознать истинное величие минуты. Даже во время салюта меня, кажется, больше интересовали не праздничное сияние разноцветных огней, а падающие на снег ещё горевшие остатки не то ракет, не то орудийных пыжей. С гурьбой таких же подростков я носился по Марсову полю от одного возникающего огня к другому и засыпал коптящее пламя горстями снега. Это был естественный выход для охвативших наши души радости и ликования: блокада кончилась!
Багдадский вор
Демонстрировавшийся зимой и весной 1944 года американский фильм «Багдадский вор» пользовался в городе огромной популярностью. Похоже, что это был первый в Ленинграде цветной фильм. Поставленный с американским размахом и техническим совершенством фильм по сравнению с нашими серенькими по качеству лентами, казался просто чудом и привлекал все возрасты. Кинотеатр «Аврора» – единственный, в котором показывали эту картину, был переполнен с утра, а за билетами стояли огромные очереди. Посмотреть этот фильм очень хотелось. Когда в один из учебных дней Кирилл Затовко предложил мне удрать с уроков и составить ему компанию для похода в «Аврору», я охотно согласился. Рассчитывали мы пробраться в зал без билетов довольно простым способом – под прикрытием потока людей, выходящих из кинотеатра после окончания сеанса. Не знаю, как сейчас, а в то время выход из «Авроры» пролегал через два или три двора и заканчивался аркой дома на улице Толмачёва (Караванной), располагавшегося примерно посредине между Невским и Манежной площадью. Мы оказались у этого дома позже, чем предполагали. Все зрители недавно закончившегося сеанса уже прошли. Дворами мы побежали к кинотеатру, надеясь, что выходные двери ещё не успели (или забыли) закрыть. Однако, случилось совсем непредвиденное: последние ворота, ведущие в небольшой дворик, в противоположном конце которого и находились нужные нам двери, были закрыты на внушительный амбарный замок. Но порыв наш в кино не угас. Заметив, что стена, образующая правую сторону этого дворика, зияет пустыми оконными глазницами, мы решили пробраться в него через соседний, явно разбомблённый, дом. Возвратившись на улицу Толмачёва, мы подались влево, чтобы пробраться на нужные развалины. Пришлось пробежать три или четыре дома. Все они были разбиты бомбами, но сохранились в целости их фасады, а входы внутрь их дворов были завалены кирпичом или закрыты воротами. Только почти у самой Манежной площади нашёлся подходящий лаз. По грудам обломков мы двинулись в обратном направлении. Наконец, достигли нужной нам стены, но оказалось, что она до окон второго этажа завалена остатками дома. Выглянув в окно, мы увидели искомый дворик: слева от нас – запертые ворота, справа – заветные двери в кинотеатр, но под нами – метра три до асфальта. Что делать? Прыгать высоко, да и можно очутиться в западне, если двери окажутся на запоре. Оглядывая в нерешительности стену под нами, мы увидели небольшие, в полкаблука, лепные выступы над окнами первого этажа. Не угаснувшее острое желание увидеть кино, да ещё надежда на «авось» решают дело. Уцепившись за подоконник, лёжа на животе, спускаем ноги на уступ, осторожно разворачиваемся на нём спиной к стене – и вниз. Оба прыгнули удачно. Сразу бросаемся к дверям – они закрыты! «Авось» на этот раз подвёл, вернее, он оказался бессильным перед добросовестностью работницы кинотеатра. Однако, торчать почти четыре часа (показывали сразу две серии) в закрытом дворе совсем не хочется. Кирилл, найдя какой-то подходящий штырь, пытается отжать дверь. Конечно, не обходится при этом без шума и стука. Внезапно дверь открывается, и на пороге возникает женщина. – Что вы здесь делаете? – сердито кричит она на нас, потерявших дар речи и ошалело уставившихся на неё. – Сейчас вас в милицию сдам! – продолжает она. И действительно, слегка углубившись в полутёмное фойе, она кого-то зовёт. Кирилл и я, не сговариваясь, бросаемся в оставленную открытой дверь, затем сразу влево в ближайшую дверь зрительного зала и растворяемся в его спасительной темноте. Есть «Багдадский вор!». Кто хочет, тот добьётся! Фильм, безусловно, оправдал ожидания. Наши усилия были вознаграждены. Сейчас его содержание почти не осталось в моей памяти, за исключением одной детали, которая так и стоит перед глазами: на своей громадной ладони джин подаёт главному герою сковороду с аппетитнейшими, скворчащими на жиру, сосисками. Не раз эта картина являлась мне потом в голодных мечтах. Только сосисок на сковороде было явно мало: всего две. Конечно, американцы не пожадничали, просто им не знаком настоящий голод.
«Забастовка»
Летом 1944 года наша школа работала на огородах в Старой Деревне, считавшейся тогда близким пригородом. Размещались мы в четырёхэтажном кирпичном доме, находившемся на отшибе от других, преимущественно двухэтажных деревянных домов. Он сохранился и по сей день. Теперь это перекресток улицы Школьной и Торфяной дороги. В окружении панельных многоэтажек дом выглядит несколько диковато из-за обилия на нём лепных балконов, более уместных для здания какого-нибудь санатория. Поля совхоза и столовая – тесный и довольно невзрачный барак, были недалеко. Ученики нашей школы составляли две группы человек по двадцать. Старшая группа включала ребят 7-х–8-х классов, младшая – 5-х–6-х. Возглавляла этот отряд Магда Самуиловна Айзенштейн – одна из наиболее авторитетных и опытных педагогов в школе. Преподавала она в старших классах, кажется, математику и, кроме того, была в Линином классе руководительницей в течение всего периода учёбы Лины в 188-й школе с 6-го по 10-й класс включительно. К сожалению, отсутствие на этот раз военрука, а также нашего завуча – строгой и деловой Любови Адольфовны – сказалось отрицательно как на дисциплине ребят, так и на отношении к труду. К тому же и кормили нас неважно. Попытки добрать калорий, поедая во время работы уже подросший турнепс, успеха не приносили, да и приелся он быстро. Ослабленная дисциплина и постоянное чувство голода привели однажды к неприятному эпизоду – отказу нашей младшей группы выйти на работу. Непосредственной причиной этого явилась обида на допущенную в отношении нас, как нам показалось, несправедливость. Накануне, во время ужина получилось так, что имевшегося на раздаче количества белого хлеба на всех нас не хватало и, по решению Магды Самуиловны, его выдали только старшей группе. Младшей группе дали чёрный, при этом не найдя нужным хоть как-то с нами объясниться. В итоге на следующий день вся младшая группа после завтрака не пошла на работу, а вернулась в свои комнаты. Глупость, конечно. Однако, не такая уж и неожиданная для обидевшихся голодных подростков. Более неожиданным оказалось другое – реакция Магды Самуиловны на этот достаточно банальный для педагогической практики казус. Казалось бы, выход из него хрестоматийно ясен: воспитателю, чтобы снять возникшее между ним и коллективом напряжение, требовалось просто пойти на прямой разговор с ребятами. Но Магда Самуиловна предпочла почему-то обходной маневр. Она вызвала к себе меня и Женю Ландышева и предложила нам двоим немедленно выйти на работу. На наш вопрос, почему именно мы, получили ответ: «Если вы пойдёте, то выйдут и остальные». На такую роль ни я, ни Женя не могли согласиться. Когда мы поведали о предложении Магды Самуиловны в группе, скромный и мягкий характером Вася Петров, высказался с неожиданной решительностью: «Что ж, вы идите, а мы всё равно не пойдем!». Но к обеду чувство обиды у нас утихло, и во вторую половину дня мы все уже были на работе. Инцидент нами был скоро забыт и, казалось, не имел последствий. Однако, подобный исход был не в характере злопамятной Магды Самуиловны. Сейчас я склонен считать, что скорее всего именно она приложила руку к тому, чтобы я и Женя Ландышев не получили медали «За оборону Ленинграда». В 1944 году этой медалью награждали в том числе и школьников, работавших летом на огородах в пригородных хозяйствах. Другие версии нашего «ненаграждения» маловероятны, так как остальные ребята, в том числе моя сестра Лина и Вася Петров, кто, как и я, участвовали в огородных работах в 1943 и 1944 годах, были все отмечены этой наградой. Чем больше проходит времени, тем всё очевидней дисбаланс между нашим проступком и последовавшим наказанием. А то, как оно было осуществлено, – исподтишка, анонимно – вообще выводит его из сферы педагогики в разряд узко личной мелочной мести.
Раздельное обучение. Проблемы с одеждой. Лёлины ухажёры
В этот же год школы перешли на раздельное обучение мальчиков и девочек. Смысл этого мероприятия, по-моему, не уяснили толком даже его инициаторы, и по вполне объяснимой причине – ввиду его полного отсутствия. Типичная административная судорога: вместо дела – его имитация.. Сколько их ещё будет в нашей жизни! Лина осталась в 188-й школе, а я шестой класс начал в 187-й, располагавшейся на углу улиц Чайковского и Потёмкинской. С нами перешли в новую школу и учителя: завуч Любовь Адольфовна и математичка Анна Павловна. Военрук тоже остался прежний, но, кажется, один на обе школы. Нашей классной руководительницей стала учитель зоологии Мария Сергеевна – не злая, всегда спокойная и уравновешенная. Она уже была в годах, в волосах её поблескивала обильная седина, в скупых движениях и разговоре, как бы через силу, ощущались усталость и лёгкое равнодушие. В общем, Мария Сергеевна была, пожалуй, не из тех педагогов, кто задевает учеников за живое, однако из тех, кто делает свою работу хотя и экономно, но добросовестно. Со снятием блокады положение со снабжением города продовольствием улучшилось настолько, что появилась возможность подкармливать учеников в школах горячими завтраками и обедами. Это было более чем своевременно, так как подавляющее большинство и учеников, и учителей были сильно истощены, страдали дистрофией и авитаминозом. Ассортимент блюд, их объёмы и качество, разумеется, оставляли желать лучшего, тем не менее школьное питание было существенным подспорьем в дневном рационе детей, поскольку оно осуществлялось сверх норм, полагающихся по продуктовым карточкам. Съедали мы всё, что нам полагалось, подчистую. Правда, оставались нередко на столах биточки из соевых бобов – безвкусные и жёсткие, они не лезли в горло. Соевое молоко с первого взгляда очень привлекало своим внешним сходством с настоящим (коровьим), но неприятный привкус, свойственный этому суррогату, отбивал к нему охоту после первого же глотка. Поправилось дело с питанием и в нашей семье. Выдаваемых по четырём карточкам продуктов (мама и Лёля – рабочие карточки, Лина и я – иждивенческие) на троих почти хватало. Лёля, как и прежде, питалась на работе. Правда, часть продуктов приходилось обменивать на рынке на одежду и обувь. Приобрести их в магазинах по государственной (доступной нам) цене можно было лишь по специальным талонам. Однако, выдача этих талонов в отличие от продуктовых карточек, которые распространялись в централизованном порядке строго по едокам, была передана в «низы» и осуществлялась по нескольким каналам: через органы социального обеспечения по месту жительства, профсоюзными комитетами по месту работы и другим. Естественно, такой неопределённый порядок создавал почву для злоупотреблений: практически талоны доставались тем, кто их распределял или был ближе к распределяющим. За всё время войны я помню только два случая, когда нам что-то досталось по талонам, причём это были вещи второстепенные (типа рубашки или блузки). Талоны же на самое необходимое – верхнюю одежду или обувь – от родного государства до нас не дошли ни разу. Конечно, в этом вопросе большую роль играло умение вовремя напомнить кому следует о своих нуждах, а при необходимости и постоять за себя, но это было не в мамином характере. Однажды, правда, мама получила талон на обувь, кажется, по линии Красного Креста. Поскольку самые большие проблемы с обувью постоянно были у меня, мама и пошла со мной по указанному на талоне адресу. В небольшом полуподвальном помещении на улице Чайковского женщина указала нам на солидную кучу разнокалиберной обуви: «Выбирайте!». При ближайшем рассмотрении в куче оказались только женские туфли, далеко не новые и не очень-то годные к повседневной носке из-за высоких каблуков. Скорее всего, это были уже не раз перебранные остатки от гуманитарной помощи американцев или англичан. В целом, обувь выглядела добротной, но очень непривычного для нас стиля и окраса. После продолжительных поисков мама смогла отобрать что-то подходящее (не пропадать же талону!), но не для меня, а, кажется, Лёле. Лёля к этому времени превратилась в весьма привлекательную девушку, что, конечно, не осталось незамеченным для лечившихся в госпитале молодых офицеров. Большинству из них было максимум по 22–23 года, все они уже были опалены войной, но это, похоже, только усиливало пылкость их чувств. Немало их на полном серьёзе предлагали Лёле руку и сердце, но у неё и у мамы в этом вопросе была твёрдая позиция: замуж только после войны. Тем не менее, от кавалеров не было отбоя, они искали внимания Лёли не только на работе, но стремились, иногда очень настойчиво, попасть и к нам в дом. Случались и накладки. Так, у нас дома однажды оказался старший лейтенант – медик Николай Коломиец – рослый, с приятным, русского типа, лицом, русыми волнистыми волосами, медлительный, даже несколько вальяжный в движениях. Лёля заметно выделяла его и разрешала провожать себя с работы. Увидев висевшую на стене гитару, Коломиец взял её в руки, слегка настроил и запел очень популярную тогда песню о тонкой рябине. Пел он хорошо, и мы (дома оказались все) заслушались. Вдруг раздался резкий звук дверного звонка, Коломиец замолк и вопросительно взглянул на Лёлю. – Коля, поди, узнай, кто, и если ко мне – меня нет дома, – попросила меня Лёля. Подобные просьбы уже бывали, и я привычно пошёл к входной двери. – Кто там? – Коля, открой, это Стрелков, – раздался из-за двери знакомый голос другого Лёлиного ухажёра, тоже бывавшего у нас ранее. Это на его гитаре аккомпанировал себе наш гость минуту назад. – Лёли нет дома, – сказал я, заранее зная, что для Стрелкова это не ответ. Младший лейтенант Стрелков (тоже Николай) был полной противоположностью Коломийцу. В его невысокой сухой фигуре, быстрых порывистых движениях ощущалась недюжинная физическая сила, а цепкий и прямой взгляд тёмных глаз под размашистыми «соболиными» бровями свидетельствовал о решительном и твёрдом характере, не особенно стесняющемся в выборе средств для достижения цели. Правда, скорее в силу молодости, Стрелков не был лишён и лирических струн: он писал Лёле много стихов – искренних, но довольно корявых, – и любил петь под гитару. Видимо, мама и Лёля вскоре после знакомства с ним стали осознавать опасность, которую сулит человек с подобным характером и к тому же ещё с заметной блатной ухваткой. Лёля стала избегать Стрелкова, однако избавиться от него было не просто. – Я знаю, Лёля дома, открой! – настойчиво донеслось из-за двери. Но я, тупо повторив, что Лёли нет дома, ушёл в комнату. Звонки и стуки за дверью усилились на время, но потом прекратились. Все в комнате вздохнули с облегчением, хотя и не очень верилось, что Стрелков успокоится так быстро. Предчувствие нас не обмануло: стуки, переходящие в грохот, начались со стороны чёрного хода. В итоге Стрелков, выломав филёнку добротнейшей двери, всё-таки оказался в нашей комнате. Все мы молчали, ошеломлённые подобным наглым напором. Коломиец стоял спокойно, тоже храня молчание. Мама начала было пенять Стрелкову за сломанную дверь... – Ничего, Софья Тарасовна, дверь починим, – не дослушав её, сказал Стрелков и, взяв лежавшую на кровати гитару, запел, озорно блестя глазами:
Обстановка немного разрядилась, и всё обошлось без скандала. После этого случая Стрелкову была дана окончательная и твёрдая отставка. Ставить на место филёнку пришлось мне. Вскоре он был выписан из госпиталя. Коломиец тоже. От Стрелкова Лёле ещё довольно длительное время приходили письма, но они оставались без ответа. Лёля ждала вестей от Коломийца, но он молчал... Забегая вперёд, скажу, что «парад» Лёлиных ухажёров продолжался до осени 1944 года, когда Лёля познакомилась со старшим лейтенантом Григорьевым Иваном Ивановичем. Сапёр по специальности, он преподавал в военном училище и в госпиталь попал, заболев золотухой. Родом из-под Архангельска, 26-летний Иван Иванович чертами лица соответствовал курносой северорусской породе, за исключением, пожалуй, волос: тёмно-русых, густых и волнистых. Стройный, спортивный, с широкими плечами и по-кавказски осиной талией он был весь заряжен энергией – деятельной и созидательной. Лёлю он нежно любил, и сразу после Победы, 20 мая 1945 года, они сыграли свадьбу. Ещё один эпизод на тему об одежде. Дядя Федя последние годы войны служил в госпитале на Суворовском проспекте, где работали мама и Лёля. В это время он жил с тётей Валей в небольшой комнате на втором этаже дома офицерского состава госпиталя на углу Суворовского проспекта и Кирочной улицы. При встречах с мамой он подробно интересовался нашей жизнью. Для мамы это было важной моральной поддержкой. В один из наших с мамой визитов к нему и тёте Вале дядя, оглядев меня с головы до ног, сказал: – Ну, академик, я собираюсь тебе пошить костюм, Какой бы ты хотел – гражданский или военный? Я немного подумал, в моей голове заманчиво мелькнули галифе с хромовыми сапогами, и ответил: «Военный». В пошивочной мастерской при госпитале с меня сняли мерку, и через месяц-другой, при очередном визите к дяде, он, указывая на лежащий на стуле аккуратный пакет, сказал: «Вот твой костюм, примеряй!». Костюм включал чёрного цвета гимнастёрку из тонкой качественной шерсти и тёмно-синие галифе из шерстяной диагонали. Конечно, всё это было перешито из вещей далеко не новых, но в целом костюм выглядел весьма добротно и сидел на мне хорошо. – Сапоги будут позже, – сказал дядя, но я почувствовал, что этой моей розовой мечте не суждено сбыться. В глубине души подобного финала я опасался с самого начала, так как понимал, что переделка сапог несопоставимо сложнее и дороже костюма. Дипломатично стараясь ничем не проявить свои сомнения, я от души поблагодарил дядю за обнову. К сожалению, я оказался не настолько дипломатом, чтобы отдельно поблагодарить и тётю Валю. Дядин подарок во многом разрешил проблему моего гардероба до поступления в училище. Правда, галифе я мог носить только зимой, надевая вместо сапог «бурки». Так в обиходе называлась довольно распространённая тогда незамысловатая, кустарно изготавливаемая обувь в виде суконных стёганных на вате сапог. Для улицы на такие «бурки» непременно требовалось надевать галоши. Настоящие, фабричного изготовления бурки представляют собой сапоги, как правило, из белого фетра с коричневого цвета кожаными головками и такой же отделкой по швам. Эта щеголеватая и очень дорогая обувь в годы войны пользовалась особой популярностью у партийных деятелей и у генералитета. С наступлением тепла вопросы «что одеть?» и особенно «что обуть?» у меня вновь обострялись. Для нас всех в течение войны эти вопросы по своей злободневности шли сразу за вопросом «что поесть?».
О школе, друзьях, книгах, досуге
Учёба в 6-м и 7-м классах (1944-46 годы, мой возраст 13–15 лет) – это последние годы, которые мне довелось провести в системе так называемого народного образования, а если точнее – в общеобразовательной школе советского образца периода военных и первых послевоенных лет. Уделяя школьным делам и необременительным домашним необходимое внимание, досуг я проводил сообразно своему детскому разумению, то есть стихийно. Во мне рано проснулось любопытство к жизни, ко всему, что меня окружает. По-моему – это благословенное чувство, щедрый подарок провидения. Человек, лишённый его или не сумевший его в себе пробудить, теряет, мне кажется, в жизни не меньше, чем, например, не изведавший настоящей любви. Именно благодаря этому чувству я практически нигде и никогда не испытывал скуки. Оно всегда и неизменно поддерживало во мне живой огонёк интереса к учёбе, книгам, доступной технике, достижениям науки и, пожалуй, в несколько меньшей степени, к людям. О книгах надо сказать особо. Ко всем им, прочитанным мной и тем, которых не смог прочитать, а также к их авторам в детстве я испытывал почтительное чувство сопричастия к тайне, в которую и мне хотелось обязательно проникнуть. Не совсем разделяя по сути, я вполне понимаю максимализм известного выражения Горького: «Всему хорошему во мне я обязан книгам». Только чтение, интересная книга, пробуждающие воображение, чувства, собственные мысли и желания, подобно солнечному свету для растения, дают толчок и способствуют полнокровному развитию духовного мира человека. Мой книжный мир блокадного времени был довольно скуден. В семье, да и в школах, где я учился, своих библиотек не было. Читал я всё, что попадало в руки: уже упоминавшегося Салтыкова-Щедрина, Чарскую, Пушкина (от сказок до «Бориса Годунова» и «Маленьких трагедий») и Шекспира (большой том в переводе Пастернака), а также книги: «Дафнис и Хлоя», «Дон Кихот», «История жизни», «Красное и чёрное», «Мужчина и женщина», «Мифы Древней Греции» и другие. Первую книгу на свои (накопленные) деньги я купил в сентябре 1941 года. Это было неплохое издание «Кочубея» А. Первенцева, ценой в четыре рубля. Но большинство книг, которые я читал до 1943 года, были из числа тех, которые доставали мои старшие сёстры. В 1943 году я записался, наконец, в районную библиотеку, располагавшуюся тогда на первом этаже дома на проспекте Чернышевского, почти напротив теперешней станции метро. Вот уж когда я припал к «живительному источнику»! Жюль Верн, Конан-Дойл, Майн Рид, Луи Буссенар, Стивенсон, Джованьоли, Марк Твен, Беляев, Уэлс, Дюма создали захватывающий мир приключений и фантастики. Были не менее интересны, хотя и по-другому, Достоевский («Бедные люди», «Белые ночи»), Лермонтов («Герой нашего времени» и стихи), Гоголь, Джек Лондон, Диккенс, Толстой («Детство, отрочество и юность»), Гюго, Горький («Макар Чудра»), Лавренёв, Гайдар, Каверин. Всех книг не перечислить, да в этом и нет необходимости. В теперешнее время назойливое и вездесущее телевидение своими зачастую поверхностными поделками по темам художественной литературы успевает «погасить» ребячье любопытство раньше, чем они прочтут книгу. Поэтому им не дано испытать того трепета, с которым я впервые открывал «Три мушкетера», «Спартак» или «Таинственный остров». Наибольший след в моей душе оставляли книги о борьбе за справедливость, победе добра над злом и в особенности те, центром сюжета которых было деятельное и бескорыстное мужское братство. Они и сейчас близки и созвучны моему мировосприятию. Многие из них теперь стоят у меня на полках, и оттого, что я в любой момент могу их взять, полистать, а по настроению и перечитать, на душе становится веселее. Хотя сейчас сила воображения и свежесть чувств уже далеко не те, что были (с возрастом зато пришёл опыт и глубина мысли), чтение, как и в детстве, остаётся для меня самым желаемым видом времяпрепровождения. Кроме книг, значительную часть своего свободного времени я посвящал кружкам, которых тогда в Ленинграде, несмотря на блокадное и военное время, было большое количество, на любой вкус. Кружки работали при районных Домах пионеров и школьников (ДПШ) и в городском Дворце пионеров (Аничков дворец). Не составляло проблем записаться в любой кружок. Меня моя «стихия» прибивала в разное время в кружки судомодельный и кино-фото во Дворце пионеров, а также в шахматную секцию районного ДПШ. Однако, занятия в кружках не увлекали меня глубоко, и, удовлетворив своё любопытство, я прекращал в них ходить. Пожалуй, только в шахматной секции я продержался сравнительно долго и успел поучаствовать в турнире начинающих на первенство Дзержинского района (разделил 2–5 места). Нешуточное напряжение, которое я обычно испытывал в ходе шахматной партии, и чувствительные уколы самолюбия при проигрышах постепенно охладили моё желание заниматься шахматами дальше. Очевидно, что подобная непоследовательность и поверхностность в отношении к кружкам объясняется как отсутствием у меня чётко выраженных способностей и соответствующей тяги к какому-то конкретному занятию, так и очень необходимой в этом случае направляющей и обязывающей поддержки взрослых. В итоге возможности, предоставляемые в этой области советской системой просвещения, мной не были эффективно использованы. Подчеркну еще раз, что возможности для развития задатков, тем более, способностей ребят были широкие, а их доступность обеспечивалась практически каждому. Мой досуг, конечно, не ограничивался только книгами да занятиями в кружках. Немалую часть его занимало времяпрепровождение на улице, во дворах домов, в частности, дома № 15, где жил мой друг и неизменный сосед по парте Вася Петров, и, особенно, уже упоминавшегося дома № 3. Помимо Бори Баженова и Киры Затовко, в этом доме жил вернувшийся из эвакуации Виталий Серебряков (через площадку с ними), а также несколько девочек – наших ровесниц. С некоторыми из них до разделения школ мы учились в одном классе. На первом этаже этого дома, в квартире с окнами во двор, жила и Ляля Микерова, моя, напомню, первая детская симпатия. Правда, она почему-то держалась особняком и не входила в компанию девочек, с которыми мы обычно проводили время. Часто мы собирались во дворе этого дома, и я иногда бросал взгляды на окна Лялиной квартиры. В своих мечтах я не раз рисовал картины на тему «любви и дружбы» с Лялей, не исключая, правда, на худой конец, и другой девочки из этого двора – Тони Сычёвой. Разумеется, это была чистая маниловщина, не предполагавшая каких-либо реальных действий. Однако, пересечение пробуждающихся взаимных интереса и симпатии между нами, мальчиками и девочками, усилившихся, надо сказать, с введением раздельного обучения, на деле вносили в наши совместные игры и общение новые, уже смутно волнующие, краски. Не могу в этой связи не упомянуть о своём первом «не мужском» поступке, причинившем одной из девочек незаслуженную обиду. Валя В. из прекрасной половины нашей компании была самой молчаливой. Активно участвуя во всех наших затеях, она очень редко подавала голос, выражая свои эмоции, как правило, глазами, мимикой, движением рук. Произнесённая ею какая-нибудь фраза из нескольких слов уже была событием. Обладая скромной и неброской внешностью, красота которой, возможно, была ещё впереди (широковатый, несколько вздернутый нос, угловатая девчоночья фигура), она, однако, была ловким и надёжным партнёром в любой игре. И вот однажды, когда мы всей гурьбой стояли под аркой дома № 3, одна из девочек (имя её стёрлось из моей памяти), не знаю из каких побуждений, взяла валявшуюся поблизости палку и под самым сводом арки нацарапала по кремовой побелке крупными буквами: «Валя + Коля = Любовь». К кому относится эта надпись, сомнений быть не могло, так как тёзок с такими именами в нашей компании не было. Валя на эту надпись никак не прореагировала. Я же подскочил к автору надписи, отобрал у неё палку и густо зачеркнул своё имя. Зачем? Кому мешала эта надпись, хотя она, положим, и не соответствовала моим тогдашним симпатиям? Мысль о том, какую обиду я наношу Вале на глазах у всех этим своим суетливым поступком, мелькнула у меня лишь тогда, когда я, обернувшись, увидел устремлённый на меня её взгляд и выражение лица. Я их помню отчетливо до сих пор. Нет, на её лице не было гримасы жалости и презрения, как я того полностью заслуживал. В её взгляде были скорее упрёк и снисхождение. Чёрт возьми, насколько по-женски умна и благородна была уже душа у этой девчонки! К сожалению, мне это стало понятным гораздо позже. А надпись оставалась под аркой в таком усечённом виде ещё долго, до очередной побелки. Рассказ о нашем досуге будет неполным, если не упомянуть о повальном увлечении ленинградских подростков середины 40-х годов велосипедом. Весь школьно-подростковый «бомонд» с улиц Каляева, Чайковского, Петра Лаврова и близлежащих окрестностей собирался на тихой Потёмкинской для длительных велосипедных катаний. Естественно, виду вертлявого двухколёсного коня придавалось большое значение. В особой чести были велосипеды, снабжённые хромированными ободами, колёсными щитками и спицами, причандалами в виде фары, подсумка для инструментов, имевшие большой и красивый фирменный знак. Но самым необходимым условием престижности велосипеда было наличие у заднего колеса так называемой «торпедовской» втулки. Ни я, ни Лина не могли и мечтать о велосипеде. Но поддалась всеобщему ажиотажу Лёля, а к её желанию рабочего человека и почти невесты мама не могла отнестись пренебрежительно. Она и Лёля пошли на Мальцевский (теперь Некрасовский) рынок и вернулись оттуда с велосипедом. Железный конь был явно не новый и к тому же имел «женскую» конструкцию. В те строгие времена сесть мужчине на «женский» велосипед означало едва ли не то же, что сейчас ему появиться на улице в юбке. Дальнейший осмотр покупки показал, что у колёс обода крашеные, спицы с лёгким налётом ржавчины, колёсные щитки и фара вообще отсутствуют. В окончательное уныние меня повергла втулка заднего колеса: она не только не напоминала «торпедовскую», но вообще не имела свободного хода! То есть при езде на этом «коне» педали требовалось крутить беспрерывно, даже если бы ты нёсся во весь опор с горы. В довершение всего эта реликвия, настоящее место которой было в музее старинной техники, имела весьма внушительный вес. Но, как вскоре оказалось, неказистость велосипеда была мне на руку. Тяга Лёли к велосипедным прогулкам быстро остыла, особенно после того, как она во время катания умудрилась столкнуться с грузовиком, хотя тогда их на улицах города можно было по пальцам перечесть. Для Лёли, слава Богу, всё окончилось благополучно, но велосипед был изрядно помят и покарябан. Лина возиться с этим «чудом техники» не захотела, и велосипед перешёл в моё полное распоряжение. Я привёл его в рабочее состояние и, хотя от «дамского» вида своего «коняги» ощущал некоторый дискомфорт, катался на нём вволю. Кроме того, чиня дряхлые камеры, устраняя «восьмёрки» и прочие всевозможные поломки, мне поневоле пришлось пройти «технический ликбез». Из своих друзей военной поры мне хочется ещё упомянуть Юру Страшнова – соседа по лестничной площадке. Он родился в 1927 году и до своего призыва в армию осенью 1944 года успел поработать в нашем домоуправлении сантехником (тогда говорили «водопроводчиком»). Добрый, скромный, немногословный, но уже почти по-взрослому серьёзный и обстоятельный Юра с охотой брал меня на свои обходы квартир, подвалов и чердаков закреплённых за ним домов. Основным видом работы в то время было устранение всевозможных протечек, возникающих как по причине изношенности труб и арматуры, так и от сотрясений при близких разрывах бомб и снарядов. Характерно, что вода в квартиры тогда подавалась по свинцовым трубам, сохранившимся ещё с дореволюционных времён. Юра умело управлялся с ними – пилил, гнул, паял. Я же был у него на подхвате и «за компанию». Получив перед самым призывом расчёт, Юра, со словами, что он уже давно оформил меня в домоуправлении своим помощником, протянул мне 250 рублей. – Это деньги, которые ты заработал, – сказал он, и я, «ничтоже сумняшеся», принял их. Я до сих пор, пожалуй, так и остался излишне доверчивым. Война оказалась довольно милостивой к Юре: хотя и сильно израненный, с искалеченной правой рукой, он вернулся домой осенью 1945 года.
В о й н е к о н е ц
Свадьба Лёли. Федя
Война, хотя медленно и кроваво, но двигалась всё-таки к своему концу. Ленинградцы постепенно морально и физически оттаивали от стужи блокадных зим. Уже никто не сомневался в том, что впереди нас ждёт Победа. Началось массовое возвращение людей из эвакуации. Почти вымершие в блокаду безмолвные городские улицы и дома стали оживать. Постепенно разворачивалось восстановление разрушенных зданий. В соседнем доме №13 работала группа военнопленных – тихих и молчаливых людей в потёртой солдатской форме грязновато-зелёного цвета. Мы глазели на пленных, не чувствуя вражды. Некоторые из них иногда просили хлеба, и я выносил просившему пару кусочков грамм на 100–150. Потом я стал носить хлеб только одному солдату – возраста моего отца – с ласковым и добрым лицом. Он говорил о себе, что он чех и называл своё имя (в памяти оно не осталось). У нас с ним завязалось что-то вроде дружбы, и мы иногда, в перерыве их работы, просто сидели рядом друг с другом. Охрана не препятствовала. Когда их переводили на другой объект, этот солдат подарил мне миниатюрное сувенирное издание Советской конституции на английском языке. К сожалению, оно у меня не сохранилось. В освободившиеся в нашей квартире комнаты въехали новые соседи. К счастью, скорее всего по совету дяди Феди, мама успела комнату Марии Фёдоровны переписать на нас. Помню, как для ускорения этого процесса (уверен, что и тут не обошлось без совета дяди), мама организовала нашему управдому – хромому, всегда спокойному и уравновешенному, средних лет мужчине, пришедшему к нам «знакомиться с ситуацией» – угощение с четвертинкой «Московской» и весьма скромной закуской. Жить, однако, все вчетвером мы продолжали в большой комнате, а маленькую мама почти всё время сдавала внаём. Об окончании войны я услышал первый раз в солнечный и тёплый вечер 8 мая, скорее всего, из уличного разговора, однако, все ждали официального сообщения. Оно разбудило нас ночью 9 мая: «Германия безоговорочно капитулировала!». Мы бурно радовались, и первые наши мысли были о Феде, что он остался живым, и о папе, что война его у нас отняла. Как ни странно, сам первый день такой долгожданной Победы почему-то не остался у меня в памяти. Спустя десять дней Лёля и Иван поженились. Их свадьба была первым крупным застольем в нашей семье, начиная с 1939 года. Гостей было около двадцати человек, но, кроме своих, я помню ещё старшую сестру тёти Вали – Марию Александровну и её детей: Людмилу и Владимира. К сожалению, в это приятное событие я влил свою «ложку дёгтя». А фактически – керосина. И не в бочку, а в громадный двухведёрный самовар, который мне было поручено вскипятить. Это дело мне было хорошо знакомо. Но в этот раз уголь в самоваре никак не разжигался, и мне пришлось плеснуть в трубу немного керосина. Огонь вспыхнул, самовар удовлетворённо загудел, и я успокоенный вернулся за стол, где веселье было уже в разгаре. Хорошо поев, я уснул задолго до конца веселья сном праведника. Наутро мама мне сказала, что задание своё с самоваром я позорно провалил. Чай томимые жаждой гости пить не смогли – от него несло керосином. Оправдываться мне было нечем, я молчал, опустив голову, и готов был принять любое наказание. Но как-то специально наказывать в нашей семье не было принято, родители обычно ограничивались в подобных случаях выражением своего неудовольствия словами, подчас довольно обидными. И, как правило, этого оказывалось достаточно. Осенью 1945 года приехал на побывку Федя. Добравшись с вокзала домой, он никого не застал и пришёл ко мне в школу. Подойдя в перерыве к нашему классу, где мы с увлечением играли в «кавалеристов» (моим «конём» всегда был крупный Боря Баженов), Федя спросил обо мне по фамилии. Пожалуй, иначе нам было бы трудно узнать друг друга, ведь мы не виделись более четырёх лет. Краткий отпуск из части брат получил в связи со своим оформлением на сверхсрочную службу. Её Федя рассматривал как ступеньку к получению офицерского звания, что и произошло года три спустя. Правда, для этого ему ещё пришлось сдавать специальные экзамены. В свои 22 года мой старший брат был уже вполне сформировавшимся зрелым человеком. Не зря на войне идёт год за три, а войну ему пришлось пройти от Сталинграда до Берлина. Выше среднего роста, внешне весьма симпатичный и обладающий заметным мужским обаянием, он был умён, рассудителен, при необходимости дипломатичен. Просто и естественно держал себя с людьми, был доброжелателен, не лишён остроумия и сам отзывчив на юмор. К сожалению, раннее знакомство с казармой и последующее длительное пребывание в солдатской среде не дали в полной мере развиться несомненно присущей ему врожденной утончённости, изредка напоминая о себе в его манерах и поступках. Фёдор был для мамы высшим авторитетом и вполне заслуженно: он был сильно привязан к семье и проявлял о нас постоянную заботу, которая ощущалась даже в мелочах. Привезённые им подарки, а он не обошёл никого из нас, несмотря на свои скромные старшинские возможности, были выбраны с толком, сделавшим бы честь и умудрённому главе семьи. Тогда же он привёз замечательный, написанный маслом пейзаж. Несмотря на отсутствие на холсте подписи художника, очевидно, что рука его мастерски владела кистью. Сейчас эта картина, а также оставшиеся в своё время в комнате Марии Фёдоровны две чудесные акварели с подписью «Эрлихъ», как и очень удачный этюд маслом на дереве «Розы» моего двоюродного брата Анатолия Лапцевича, составляют главное художественное украшение нашей квартиры. От тех дней осталось фото, где мы, по предложению Феди, запечатлены в полном, теперь уже изменённом составе: не стало папы, но появился Иван, Лёлин муж.
Семейное фото. Ленинград, 1945 год. В центре мама и муж Лёли – Ваня, слева Федя и я, справа Лёля и Лина
В последующем полностью наша семья уже никогда не собиралась. Именно с этого отпуска, сам того не желая, Федя стал причиной серьёзной размолвки между мамой и тётей Валей, которая «положила на него глаз» как на «жениха» для своей племянницы. Люся Анкудинова была худощавой, приятной на вид, но несколько анемичной блондинкой с негустыми вьющимися волосами и спокойной, слегка ироничной манерой поведения. Как мне кажется, она была неглупа, не вздорна и не мелочна, правда, по внешнему блеску, живости ума, умению «себя подать» намного уступала своей тёте. Но, надо отдать Люсе справедливость, она и не тщилась за нею угнаться, держась всегда приветливо и с достоинством. Возможно, что брату она стала бы неплохой женой, если бы не один нюанс: по возрасту она, кажется, была немного старше Феди и, по мнению тёти Вали, ей нельзя было больше ждать. Поэтому тётя взялась за дело с присущей ей энергией, стремясь завершить его как можно скорее. Люся, кажется, была непротив, брат держался индифферентно, мама заявила категорически: «Феде жениться рано!». В результате брат уехал холостяком. Вместо свадьбы Люси и Феди получилось длительное и острое противостояние между тётей Валей и мамой. Стремление тёти форсировать события имело обратные последствия: Люся вышла замуж лишь года три-четыре спустя и не за Федю. Вскоре после отъезда Феди в часть сдвинулась с места и Лёля. Иван Иванович получил назначение в Прикарпатский военный округ. Это назначение оказалось для них всерьез и надолго.
1946 год. Экзамены. Выбор пути
Мои ребячьи дела шли своим чередом. Весной 1945 года я вступил в комсомол. К этому шагу меня никто не понуждал и не подталкивал. Я искренне считал, что это именно то, что мне нужно. Впрочем, ничего нового в мою жизнь этот шаг тогда не принёс. Компания ребят из дома № 3 задумала «весело встретить Новый, 1946-й год». Место встречи определилось на квартире одной из девочек (Нинетты), родители которой согласились предоставить нам комнату на новогодний вечер. Я это намерение встретил с энтузиазмом, тем более, что у меня уже стал проявляться интерес к танцам. К тому же, не в пример большинству моих ровесников, я уже мог танцевать наиболее распространённые тогда вальс, фокстрот и танго. Сказались постоянное использование меня в качестве партнёра Линой и её подругой Катей во время своих танцевальных упражнений, а также наглядные «уроки», которые я имел возможность получать во время нечастых домашних вечеринок Лёли и Феди со своими знакомыми. Танцевальные мелодии – томные, волнующие, манящие – уже находили в моей душе живой отклик. Они так звучно и красиво изливали мои сокровенные чувства и желания, которые смутно бродили во мне, и которые я не мог выразить словами! Для организации новогоднего вечера, как подсчитали девочки, требовалось с каждого по 100 рублей – по тем временам сумма приличная. Чтобы их заработать, Кирилл Затовко и я подрядились пилить дрова. Распилили около двух кубометров, раскололи и частично перенесли на пятый этаж одного из домов на улице Чайковского. Так мы добыли для себя нужную сумму. Всё необходимое девочки закупили в коммерческом магазине. Хватило даже и на бутылку шампанского. Коммерческие магазины снова появились в Ленинграде в конце войны. В них по высоким ценам в широком ассортименте продавались продукты и вина. Для меня был ещё один трудный вопрос: в чём пойти на вечер? Очень не хотелось одевать уже изрядно наскучившие гимнастерку и галифе, а особенно «бурки». Но выбора не было. В буквальном смысле – костюм этот был у меня единственный. От новогоднего вечера в моей памяти сохранилось до обидного мало. Вкус шампанского (каждому досталось по глотку), напомнил мне довоенную газировку. Испытал удивление, смешанное с досадой, от также испробованного впервые хрустящего обманчиво-объёмного «безе», мгновенно таявшего во рту. Во время вальса «Голубой Дунай», девочка, написавшая под аркой упомянутое мной равенство, сказала, что по отношению к Вале В. (её почему-то не было на вечере) – это чистая правда. Было непонятно, почему этот вопрос так занимал мою партнёршу. Однако, напоминание об этом эпизоде меня, из-за своего не совсем благовидного поведения, неприятно задело, и я уклонился от дальнейшего развития темы. На этом и окончились мои детские «романы». Вечер в целом удался: было весело, мы много танцевали и ощущали себя почти взрослыми. Но, как это обычно бывает в таком возрасте, после того как событие, которого мы очень ждали, свершилось, мы испытывали чувство, что самое заветное, чего хотелось больше всего, не сбылось. Мы ещё не могли знать, что «самое заветное» исполняется далеко не всегда, а если и исполняется, то не всё сразу и не так, как ожидаешь. А то и вовсе то, что оно, оказывается, сбылось, становится понятным много позже. Учёба в седьмом классе меж тем быстро катилась к своему концу. Этим классом завершалось тогда «неполное среднее» образование, о чём выдавалось специальное свидетельство. Ученик получал возможность выбора: или продолжать учёбу в школе, или поступать в среднее специальное учебное заведение (техникум), или (по исполнении 16 лет) идти на работу. Для меня этот вопрос сводился к двум последним вариантам. Лина училась в девятом классе, была постоянной отличницей и активистской. Она очень хотела в последующем поступить в ВУЗ. Но было очевидно, что учить сразу двоих уже подросших детей маме будет не по силам. Правда, Федя в письмах настаивал на том, чтобы мы продолжали учёбу, и обещал свою помощь, однако взваливать на него такую обузу не лежала душа. Предварительно остановились на том, что я, окончив седьмой класс, буду поступать в техникум. Своего определённого мнения, как поступить и где дальше учиться, у меня не сформировалось, и я к такому варианту отнёсся почти равнодушно. Конечно, если бы материальные условия позволяли, продолжать учебу в школе, а потом в ВУЗе мне было более желательно. Но раз нет – значит, нет. Тем более, что вопрос «кем быть?» в конкретной постановке для меня ещё оставался открытым. Имели место лишь неопределённые мечты и смутные желания. Здоровый практицизм, признаки которого уже явно просматривались у некоторых моих сверстников, меня ещё совсем не коснулся. Даже придя к решению, что буду поступать в техникум, я серьёзно так и не задумался над тем, в какой именно? Безусловно, подобная пассивность не украшает даже подростка. Но, если не решаешь ты, решают за тебя: или другие люди, или жизненные обстоятельства. Передо мной фотография нашего седьмого класса, сделанная, скорее всего, в начале 1946 года. Перечислю всех, как осталось в памяти. Имена некоторых ребят и фамилии учителей, к сожалению, забылись.
7-й класс 187 мужской школы. Ленинград, 1946 год. Слева направо: 1-й ряд (сидят на полу): Раскин, Вася Петров, Орельский. 2-й ряд: Виталий Серебряков, Николай Лапцевич, Лопатинский, Мария Сергеевна, Любовь Адольфовна, Ефим Свибильский, Боря Галкин, Боря Баженов. 3-й ряд: Дима Кубеев, Саша Морозов, Женя Петров, Волцингер, Воробьёв, Боря Фефилов.
На фотографии нет упоминаемых мной ранее Жени Ландышева, Володи Шаброва, Боря Петрова, Кирилла Затовко. Первые трое к тому времени учились в других школах, а Кирилл, видимо, отсутствовал в школе в этот день. Подошли экзамены. В седьмом классе, учитывая его этапное значение, их было немало, кажется, девять. Запомнилось, что к экзамену по «сталинской» конституции мы готовились вместе с Виталием Серебряковым, с которым к этому времени заметно сдружились. Виталий тоже рос без отца, но у матери он был один. Умный, сообразительный, по характеру живой и общительный, в своём общем развитии Виталька явно превосходил меня. По-хорошему я завидовал его способности свободно чувствовать себя в любой компании, а его умение вести без тени смущения живо и непринуждённо разговор с несколькими девочками одновременно меня подчас просто изумляло. Ему не требовалось лезть за словом в карман, они, казалось, сами слетали с языка и, как правило, кстати. Не обременённый какими-либо комплексами, хотя подростка без этого «груза» представить трудновато, он был не по возрасту целеустремлён и, пожалуй, «себе на уме», тогда, впрочем, вполне в меру. Виталий тоже намеревался уйти из школы после седьмого класса. Он и предложил мне вместе попытаться поступить в какую-нибудь военную спецшколу. О военной стезе, как и о других, я не задумывался, но, как говорится, семя упало на благоприятную почву. Главным образом потому, что таким путём кардинально решался мой материальный вопрос: учёба в спецшколе сулила полное государственное обеспечение. Да и перспектива пофорсить в военной форме тоже привлекала. Излишне говорить, что представление о сути военной службы у меня не выходило за рамки навеянного советскими книгами и кинофильмами той поры: мудрые и заботливые командиры отдают приказания, а самоотверженные и мужественные подчинённые, наперекор козням всяческих врагов, их беспрекословно выполняют и своевременно докладывают. При этом все козыряют друг другу. Сопутствующий же армейской службе негатив относился или к старой армии, или к проискам врагов, или к «пережиткам капитализма». Поскольку иных вариантов в запасе не имелось, решение поступать в военную спецшколу постепенно укреплялось. Вернусь, однако, к экзамену по конституции. Во время подготовки мы поневоле прочли её внимательно, от корки до корки, стараясь при этом, в меру своего разумения, проецировать конституционные положения на окружающую нас жизнь. Должен сказать, что особых противоречий одного другому мы не узрели. Единственное положение, вызвавшее у нас некоторые вопросы в этом смысле, было то, где говорилось о свободе слова, печати, собраний, митингов и демонстраций. Мы чувствовали, что в жизни эти положения реализуются весьма односторонне, и воспользоваться ими в полном объёме никто не позволит. После обсуждения этого вопроса мы сошлись на том, что, поскольку у нас конституция социалистического государства, то и свобода здесь имеется в виду только для слов, печати и так далее лишь в социалистическом духе. А для других в нашем государстве нет никакой базы, поэтому и быть их не может. На этом и успокоились. Эти «умные» рассуждения я привёл для иллюстрации возможностей и уровня нашего критического восприятия окружающей жизни в том возрасте. На мой взгляд, они достаточно типичны. Для обычного подростка в части его мироощущения преобладающим является убеждение: раз взрослые так говорят, так живут, значит, так оно и должно быть на самом деле. А чтобы разобраться в том, как оно действительно должно быть, может не хватить и всей жизни. После окончания семилетки мы с Виталием побывали в лётной и артиллерийской спецшколах, а также в Ленинградском военно-морском подготовительном училище, чтобы ознакомиться с правилами приёма. Все они были идентичны, но наше решение в пользу ЛВМПУ определило то, что, закончив его, мы попадали в высшие военно-морские училища, которые давали общее высшее образование. В наших представлениях это было очень веским аргументом в пользу ЛВМПУ. В числе прочих документов для поступления в училище требовалась характеристика из школы. С этим вопросом я обратился к Анне Павловне – учительнице математики, замещавшей в роли классного руководителя ушедшую в отпуск Марию Сергеевну. Расспросив меня, что и как, Анна Павловна сказала: «Пусть придёт мама». Мама пришла, и между ними состоялся довольно долгий разговор. Два их силуэта на фоне окна в школьном коридоре и сейчас в моей памяти. Я бродил неподалёку. Закончив разговор, Анна Павловна велела мне прийти за характеристикой на следующий день. По дороге домой мама сказала, что учительница уговаривала её не брать меня из школы, и что она не согласилась. Получив на следующий день характеристику, я, среди общих похвальных слов, прочёл в ней: «...с выраженными математическими способностями». Тогда это мне, конечно, польстило, но позже, пройдя дважды курс высшей математики (в училище и в вузе), я склонен считать, что Анна Павловна переоценила мои «математические способности». Видимо, она приняла за них моё умение сравнительно легко разгадывать «изюминки» в её задачках. Да, это действительно имело место. Но настоящая математика, как мне теперь кажется, требует наличия у человека гораздо большего – неординарной силы абстракции и особого «математического» воображения. Когда я, влекомый какой-то тягой к этой «царице наук», брался за математическую литературу посерьёзней, то явно ощущал в себе недостаток этих качеств. Документы наши в училище приняли, мы прошли медицинскую комиссию, и очень быстро настало время экзаменов. Поступавших, надо сказать, было много – около двух тысяч на 200 мест. Всех нас разбили на «потоки» (группы для сдачи экзаменов), придерживаясь алфавита. Я попал в четвёртый поток, а Виталька, соответственно, в более поздний. Так с первых шагов наши пути начали расходиться. Экзаменов было, по-моему, четыре или пять. Остались в моей памяти два. Один из них, по русскому языку и литературе, принимал преподаватель Купресов, уже весьма пожилой, полноватый, с седыми небольшими усами на розовом холёном лице. Как и большинство преподавателей, одет он был в синий морской китель. На первые два вопроса билета я ответил легко, а на третьем – разборе довольно замысловатой фразы из нескольких трудно разграничиваемых безличных предложений – заметно напутал. В итоге тройка увенчала мои усилия. Другой экзамен, по математике, принимал у меня Журавский – худощавый смуглый брюнет, с тихим голосом и вкрадчивой повадкой, очень спокойный на вид человек. Нам уже было известно, что он задаёт много дополнительных вопросов, и поскольку экзамен принимали несколько преподавателей одновременно, к нему ребята попадать избегали. Я билет знал хорошо и решил не изощряться в подобных попытках. Журавский действительно допрашивал меня по билету с пристрастием, а под конец предложил задачку. В ней содержалась «изюминка», к которым нас так приучала Анна Павловна. Я её довольно быстро разгадал и получил за экзамен отличную оценку. Остальные экзамены я сдал на четвёрки, так что мой средний балл оказался вполне проходным. После «мандатной комиссии», о которой в моей памяти остался лишь сам факт её прохождения, наличие большого числа военных и гражданских за длинным столом, перед которым я одиноко стоял, и доброжелательный тон задаваемых вопросов, в двадцатых числах июля я был зачислен курсантом ЛВМПУ. Вернувшись домой с этой вестью, я увидел в комнате сидящего с мамой незнакомого человека, взглянувшего на меня с ласковым интересом. Оказалось, что это брат Мирона Кульпановича, мужа маминой сестры Агриппины. Как и дядя Мирон, он долго служил на флоте, дослужился до капитана 1 ранга, в данное время в отставке и является научным сотрудником Военно-морского музея. Узнав о моём зачислении в ЛВМПУ, он веско сказал: – Что ж, Коля, морская службы трудна, но почётна – старайся! Так неожиданно я удостоился напутствия старого морского волка. Правда, больше его я ни разу не видел, и не помню, чтобы о нём вспоминала мама. Как будто специально, для напутствия мне, возник он из небытия и затем пропал навсегда. Ну, чем не мистика!
Мама, Лина и я сфотографировались перед моим уходом в училище. Ленинград, июль 1946 года
Окончательно уйти в училище мне предстояло 29 июля 1946 года. А 28-го был День Военно-Морского Флота. Вечером этого дня я сходил в парикмахерскую, остригся наголо и уже в «готовом» виде медленно вернулся домой праздничными улицами. На душе почему-то было грустно. И вполне закономерно. Она-то понимала: детство кончилось!
Санкт-Петербург 2003 год |