


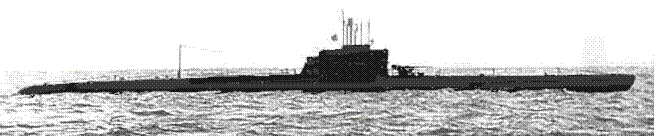
© Клубков Ю. М. 1997 год
|
|
|
|
|
© Клубков Ю. М. 1997 год |
||

Народный артист России Иван Краско вышел из мужиков, поэтому сам -- настоящий мужик: разносторонний и многогранный, с загадочной душой, недюжинными способностями, философским мышлением и сильным характером. Он прошёл школу флотской закалки, но, послушавшись призывов своей души, повернул на путь театрального творчества. Это беспрецедентный факт, не имеющий аналогичных примеров на флоте. Как всё это было непросто, он художественно рассказывает сам в своей книге «Жил один мужик», за которую в 2001 году получил литературную премию «Петрополь». Призов и званий он имеет множество. А осенью 2001 года за большие заслуги перед Отечеством он вместе с Виктором Конецким стал членом Георгиевского Союза, созданного в честь Святого Георгия Победоносца, покровителя России.
« Ах вы, батенька, служили на Дунае… Так вы, оказывается, речной моряк!».
Народный артист России
Борис Соколов, коллега
И в а н К р а с к о
Маму я не помню совсем, мне ее баба Поля заменила. Она с гордостью рассказывала, как бывало, поднимет меня на руках, чмок в попку и говорит подружкам-старушкам:
-- Я вам дам, -- "осенчук"! Ишь, чего захотели, – "не жилец"!
Мало, кто после смерти мамы Насти верил, что десятимесячного Ванюшку удастся выходить: хилый был, вроде недоноска.
Болела Анастасия Ивановна не очень долго: муха ее какая-то укусила в руку около плеча. Расчесала ли неловко или что еще, одним словом, – заражение крови. Врачи говорят, руку отнимать надо, а она ни в какую:
-- Что я с мужиком - пьяницей без руки буду делать? Вон четверо у меня, один грудной еще!"
Чего тут больше было – тоски от жизни тяжкой или желания выжить? Пойми теперь…
Подробностей не знаю, но, когда умер отец наш Иван Афанасьевич в 1936 году, баба Поля троих маленьких: Николая, Василия и меня, одиннадцати, девяти и шести лет, соответственно – взяла на воспитание одна.
Только старший, Володя, тринадцати лет, отошел к бабе Даше. Дед Иван Иванович и вся состоятельная родня – не ровня была этой голытьбе… А бабе Поле не привыкать – ведь она из кулаков Клементьевых – все собственным горбом.
После смерти отца вчетвером с бабой Полей, по ее науке и правилам, вели хозяйство. Натуральное, по всем статьям: корова, картошка, овощи. И жили, думалось, не хуже других. А на самом деле – беднота сиротская.
Баба Поля
Баба Поля моя вещунья была. Нельзя сказать, чтоб колдовством баловалась, но ячмень-писяк на глазу заговорить, болячку какую снять – дело для нее плевое. Мне бы, пионеру хренову, записывать за ней, да где там - рогатка важней! Кое-что всплывает в памяти.
Баба предлагает мне безымянным пальцем левой руки обвести сучок на стене, а сама говорит что-то бытовое – не молитву, а что-то вроде:
-- Все хвори-напасти уйдут восвояси, нечего им тут делать,
Ванюшку моего портить.
Говоря профессиональным актерским языком, она мне ставила задачу на физическое действие, целью которого было отвлечь меня от слов, потому что я мог и посмеяться над ее свойскими разборками с болезнью, а уж это было бы недопустимо, и проку никакого не принесло бы. И вот я весь в этом сучке, послушный – аккуратно обвожу контур (стены у нас были сосновые, без обоев), а баба Поля – шлеп легонько: иди, говорит, бегай дальше… А на следующее утро взглянет мимоходом, где болячка была, а ее и след простыл!
Проблемы семейной жизни тоже просто решала. Подслушал как-то ее рассказ соседке, та пришла за советом по этой именно части.
-- Афанасий мой загулял, было дело. Крепко загулял -- ничего не делает, только пьет -- и всех забот! Терпела я, терпела -- не помогает добром его совестить да упрашивать. Собрала всех ребятишек, а их шестеро было – мал-мала меньше, и когда заявился он, чуть ли не ползком, счастливый: "Поля, Поля моя!" – я ему всех шестерых, как щенков, одного за другим и покидала:
-- Радуйся с ними один, пей-гуляй, мне тоже пировать охота!
Протрезвел мой Афоня враз. Кинулся за мной, на коленях умоляет не уходить, не позорить:
-- Все! Поля, клятву тебе даю, – не буду больше!..
И ведь сдержал свое слово: с тех пор – ни-ни. По праздникам только, да и то помаленьку… Шелковый стал Афанасий. Да, так-то они, мужики, все хорошие. Воли им нельзя давать…Деда Афанасия Данилыча только и помню, что на отпевании: прямо в избе огромные подсвечники вокруг гроба стояли, да батюшка с кадилом ходил.
Урок на всю жизнь
Пришли в 30-е годы раскулачивать. Дед Афоня покорно вывел корову: а что делать? – декрет. А баба Поля и тут по-своему.
-- А что же, -- говорит, -- вы только кормилицу забираете? Тогда уж, и этих всех с собой! – и толкает к уполномоченным старших детей – Дуню с Пекой, а заодно и меня – "осенчука" сует. У тех и руки затряслись:
-- Пелагея Алексеевна, да как же?..
-- А вот так – я уж давно грудью не кормлю, а дохлые они мне не нужны!
Так и ушли уполномоченные ни с чем…
Сурова была баба Поля. Но и справедлива. Придешь домой после драки, нюни распустишь:
-- Что?
-- Коля Пулин дерется… – и сопли по лицу.
Вот тут и пожалеет тебя баба Поля. Весьма своеобразно. Подзатыльником:
-- Еще раз пожалуешься – не так получишь! Сдачи дать не можешь? Тогда беги. Не зря сказано: дают – бери, бьют – беги.
И урок этот -- один-единственный! – на всю жизнь.
У страха глаза велики
Дрова заготавливали на всю зиму. Таскали их из лесу на своем горбу. Однажды мы с бабой Полей вот так по вязанке сухих сучьев нагрузили, крякнули и пошли к дому. Баба, хоть ей уже и под семьдесят, двужильная, вперед ушла, а я поотстал, да и дорога пошла на подъем. Тяжело, а остановиться, отдохнуть – боязно: дело было под вечер, смеркалось, и звук какой-то появился. Мне с ношей моей и не повернуться, не рассмотреть, кто там догоняет со стоном каким-то и хрипом – ужас!
Поднажал, а сил нет никаких – от страха ноги подкашиваются… Выкарабкался кое-как на взгорок. Бабу Полю, слава богу, уже видать, да и посветлее на просторе. Сбросил дрова, оглядываюсь, а и нет никого, один я. А звуки эти дикие, нечеловеческие от меня же самого и исходят – это я так от натуги с хрипом и стоном дышу.
Никому я эту историю не рассказывал, а недавно в разговоре с Ниной Николаевной Ургант поведал об этом, как мне казалось, забавном случае, привел его, как пример того, что у страха глаза велики. Думал, что будет смеяться, а она заплакала.
Велосипед
У Коли Пулина появился велосипед. Это же целая эпоха в детском развитии! Покататься друг давал, даже часто, но иметь свой взрослый велосипед – это совсем другое. Да стоил он так дорого, что обратиться к бабе с просьбой купить это "баловство" даже мысли не возникало.
Но однажды дружок сообщил, что в Касимове кто-то раму продает за 60 рублей (тоже безумные деньги!), да еще предложил помочь собрать колеса. Тут уж мое сердечко дрогнуло – больно велик соблазн был. Робко изложил бабе Поле мечту свою, не сомневаясь заранее в полной ее неисполнимости. И впрямь – только и услышал:
-- Еще чего? Шестьдесят рублей за одну раму? Откуда у нас такие деньги? И думать забудь.
И рад бы забыть, да никак. Не помню уж, спал или нет в ту ночь. Может, и спал. И снилось мне это несбыточное двухколесное счастье. Нелегко дается постижение недоступности… Почему у Коли Пулина есть, а у меня – никогда не будет? А потому, что сирота. Да и беднота. О каком велосипеде могла идти речь? Помышлять тогда о такой роскоши, все равно, что сейчас о шестисотом "Мерседесе". Короче говоря, смирился я с бедой своей детской – на нет и суда нет.
Взглянула утром баба Поля строговато: прошла, мол, блажь-то? А мне что? Мне не привыкать: подумаешь, велосипед какой-то…
-- На. Купи эту раму дурацкую. Да смотри, чтобы не обманули. С Колькой иди.
И подвигает баба ко мне шестьдесят рублей! Они, оказывается, на столе лежали, я от горя не заметил…
Жажда жизни
Мы с Колей Пулиным дружки были – не разлей вода. Соседи, коров своих вместе пасли. Поскольку жизнь была, мягко сказать, нелегкой – вся радость в играх находилась. Лапта, "двенадцать палочек", прятки, футбол с тряпичным мячом… Но это уже попозже. А как-то придумал Дядя Вася (брата моего теперь так даже собственные внуки зовут) забаву: стрелять из резинок, на пальцы надетых, не бумажными "снарядами", а "пульками". Делал их из алюминиевых проволочек. Раздаст всем поровну, и пошла стрельба-дуэль, только глаза береги. Попадет в лицо или голову – больно.
И вот раз воюем мы так в доме (погода была неважная). Народу много: не только родные да двоюродные братья, а и соседские пацаны собрались. Баба Поля в отъезде, а мы за хозяев.
Стрельба идет нешуточная, крик, гам. И вдруг… полная тишина и, как говорится, немая сцена: зачаровано следим, как падает сбитая чьим-то метким выстрелом лампадка, стоявшая в переднем углу перед иконой. Прямо с огнем опрокидывается и на пол – дзинь! На кусочки, и только масло деревянное растекается…
В момент все преображается. Сообща наводим порядок – кто попал, даже не выясняется. Подметаем, подтираем, а старшие запасную лампадку ищут, потому как баба Поля на ночь непременно молиться будет. Да это еще поздним вечером и освещение – электричества-то не было. В чулане, на чердаке, в комоде, где только не искали – нет лампадки! По соседям побежали (всю деревню, почитай, прочесали) – пусто.
Тут ряды наши поредели. Сначала соседи о неотложных домашних делах вспомнили, потом и двоюродные смылись, от греха подальше. Осталось нас трое, бедолаг. Марафет, само собой, навели в доме. Чистота, печка горячая, на ней пойло для Зорьки, как положено, готово, чай для бабы.
Она, как в городе на Бассейном рынке молоко продаст (литров тридцать – и все на себе!), обязательно маленькую водки купит. Вот с чаем – горяченьким, крепким да сладким – и хлопнет стакан, "с устатку". Придет малость в себя, заметит наши старания по дому ("молодцы!"), а с чего мы притихшие, смирные не в меру – ей еще невдомек. Мало ли, набегались за день… А такие дни – отъезд бабы Поли – раза два в месяц. Для нас они, что игры олимпийские! Полный сбор, и забавы по всей программе! Вот и доигрались.
Баба не обманула наши надежды. Поначалу ничего не заметила. Все дела по дому справила, Зорьку подоила, и перед сном – к боженьке. Мы на всякий случай в комнате лампу вторую засветили – вдруг не увидит…ну, хоть не сразу… Сами затаились. Заглянуть страшно. Сидим втроем на диване, ноги поджали – ждем… Начало мирное.
-- Слава тебе, Господи! Спасибо тебе, всех напитал – никто не видал!
А кто и видел – не обидел…
Пауза… Не дышим. Как на старте, к рекорду мира по бегу – не меньше! Ну, конечно. Разве может баба Поля иначе?
– Мать твоя, блядь! Кто же лампадку разбил?! Господи! Прости меня, грешницу! Да как же с этими распиздяями по-другому можно?! Ой, Господи, не суди ты меня строго, сил моих нету…
Эти слова слышим уже в затухании, ибо сдуло нас с дивана и вынесло на улицу со скоростью света… Великое дело – жажда жизни!
Случай на пруду
Пацаном ещё решил переплыть Вартемякский пруд, только чтобы никто не видел. Плыву, плыву и вижу, что не осилить. Повернул обратно, и правильно сделал. Из последних сил выбрался на сушу.
Еле-еле дышу: слабак оказался.
-- Ну что, -- слышу вдруг, -- обидно?
-- Ага, -- я даже не испугался.
Дядька на камушке сидит, глаза добрые. И мне совсем перед ним не стыдно, что я не доплыл. А он позор мой видел.
-- А знаешь, что ты больше половины проплыл?
-- Нет, оставалось больше, до середины я не добрался, я же видел.
-- У страха глаза велики. Слышал такую пословицу?
-- Да толку-то.
-- А ты отдохни и ещё раз попробуй. Хочешь, я рядом поплыву?
-- Не, я один.
Странное дело, я уже знал, что переплыву пруд, я видел, что вовсе он не широкий. Я кивнул дяде, спокойно вошёл в воду и неспеша направился к тому берегу. Основной стиль у нас был по-собачьи, а тут я даже сажёнками немного прошёлся. Вышел на берег сильным и красивым, ловким. Это я знал и хотел, чтобы и дяденька тот меня таким увидел. Обернулся, чтобы крикнуть ему спасибо, а его и нет. Никогда больше не встречал я этого человека. А помню всегда.

Вартемяки, Ленинградской области,
1946 год.
Первый в жизни снимок.
Заканчиваю седьмой класс
Братья
Примета
А был и такой случай. Осенью прилетел из леса дятел и давай скворечник на березе долбить. Гулко. Скворцы уже улетели, опустел их домик. Я вижу такое дело, хвать рогатку, камешком хорошим зарядил и прицеливаюсь. А баба (иначе мы ее и не звали – просто и ласково), по рукам мне:
-- Не смей, -- говорит.
А рука у нее тяжелая – всю жизнь хозяйство вела! Мне обидно, почему "Не смей", вон какая птица красивая, я чучело сделаю! И опять целюсь, а она мне подзатыльника:
-- Сказала – не смей!
-- Да почему?!
-- А потому… – и так посмотрела, такими глазами!
-- Беду он нам, Ванюшка, принес, дятел этот…
-- Какую?
-- Не знаю пока…
А красавец будто для того и прилетал, чтобы эту весть передать, вспорхнул – и домой, в лес.
Когда через полгода, весной, похоронка пришла: «В Сталинграде, 19 ноября 1942 года смертью храбрых… ваш внук и брат Владимир Иванович…». Я – в рёв.
Любил Володю больше всех из братьев – самый старший, умный был, да и меня он баловал, жалел младшего. Редко я его видел, учился брат в Новгороде, в дорожном техникуме. Закончил как раз в сорок первом. С началом войны его отправили в Томск, в артиллерийское училище, а оттуда в это пекло, в Сталинград.
Реву я, значит, от этого страшного известия и получаю от бабки опять же подзатыльник! Тут уж не обида, бунт: «За что?!» А баба Поля – глаза пустые:
-- Раньше надо было плакать… Я уж совсем растерялся:
-- Когда – раньше?
-- Когда дятел прилетал…
Хоть не отметил я тот осенний день, но знаю твердо – именно тогда погиб Володя.
Майор Бахвалов
Ох, и любил Николай Иванович выпить. Водку находил всегда. Займет, выпросит, а то придумает способ промысла, который не всякому в голову придет. Главное – достать ее, родимую!
Служил он разведчиком, там, в армии, к спирту пристрастился, да и врожденная склонность была – отец Иван Афанасьевич умер в сорок с небольшим от нее, проклятой…
Во хмелю Николай был весел, приятен, чудил.
Вечером как-то оказался один посреди деревни. Заскучал – зайти не к кому – поздновато, а домой неохота. Вдали показались двое. Идут по улице и видят, лежит кто-то, постанывает.
-- Елки-палки, это же Коля Бахвалов!
Стали тормошить, а он только мычит, глаз не открывает.
-- Замерзнет он тут.
-- Да… Живет он далековато…
-- Да вот же Васин дом, брата!
Приволокли, стучат. Василий Иванович уже спал. Дверь открыл, втащили парни полуживого Колю, на пол в кухне уложили, а он вдруг как захохочет:
-- Вот спасибо, ребятки! Аккуратно доставили! С меня причитается. Давай, Вася, наливай!
Около сельмага приспособился Николай Иванович останавливать грузовые машины. Руку поднимет, шофер и притормозит.
-- Здравствуйте. Майор Бахвалов.
Доверчивый водитель документы предъявляет: вид у майора подходящий, а что не в форме, так живет, наверное, рядом… Обходит "майор" Бахвалов автомобиль, осматривает внимательно – где-нибудь да есть непорядок, а инспектируемый и сам знает, что не все у него в ажуре, ведет себя заискивающе. "Товарищу майору" только этого и надо.
-- Ладно, на первый раз штраф три рубля. Оформлять будем?
-- Не, лучше не надо. Я все подгоню, товарищ майор, честное слово!
-- Ну, смотри…
Оштрафованный уезжает довольный – малой кровью дело обошлось. А Николай Иванович – в магазин: два восемьдесят семь за пузырь, еще и на сырок плавленый хватает.
И жил бы так Николай Иванович припеваючи, да только… Вьется веревочка, вьется, а кончик, как говорится, неожиданный.
-- Чего?! Какой ты, в задницу, майор? Где удостоверение? Иди-ка сюда!
Сграбастал громила-шоферюга самозванца за шиворот и доставил аккуратненько к посту ГАИ на развилке Выборгского и Приозерского шоссе. Это всего в девяти километрах от родной деревни Вартемяки.
-- Ваш майор?
А там знают дорожного мастера Бахвалова – контора у него рядом, в Песочном.
-- Николай Иванович! Что случилось?
-- Да пошутил я…
Вот так же, видимо, шутя, и упал Николай Иванович у пивного ларька, что стоял когда-то у сельмага. И, может быть, отлетавшей душой услышал последнюю шутку в свой адрес от Сереги Бахвалова, брата двоюродного, вполне в духе всей их жизни, случайной и не особо серьезной:
-- Сват, кончай придуриваться.

А это Вартемяки -- моя родина, прекраснейшее место в мире, бывшее имение графа Шувалова.
Моя родня на мосту через Охту, построенном Николаем Ивановичем, тем самым «майором Бахваловым».
Сам я увлекался фотографией, поэтому нахожусь за кадром
Мой брат -- сын полка
В 1942 году Василий убежал из дому. Шепнул мне, что в лес, в Сарженку. Там красноармейцы, буду, мол, сыном полка. Баба Поля сильно не ругалась, пробурчала только:
-- С голоду не помер бы.
Через неделю наш беглец уже дома появился.
-- Что, наслужился? -- спрашивает баба Поля.
-- Да не, я поесть.
-- А чего тебя твой полк не кормит, что ли?
-- Я там пообедал, да чего-то домой захотелось. Харч-то у них хороший, добрый, как повар говорит. Только такой вкусной мятки, как у нас, не бывает.
Мятка -- это картофельное пюре с молоком. Мятка -- на ней мы и выросли.
Из воинской части приходил командир, посмотрел, как мы живём, спросил, не против ли баба Поля, что внук раньше срока в армию ушёл.
-- Да нет. Его, балбеса, попробуй отговори! Всё равно по своему сделае. Пускай уж, может, уму-разуму научите.
И ещё договорился командир, что к нам на постой красноармеец придёт, художник полковой. Стенгазету в землянке писать несподручно, а у нас стол большой, тепло. Фамилия художника была Шуляк. Мне нравился его красивый почерк. Газету он всю писал сам от руки. Наверху: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «За Родину! За Сталина!», а ниже -- заметки бойцов о достижениях в боевой и политической подготовке.
Портрет Сталина Шуляк перерисовывал с открытки: на квадратики её карандашём разделил, потом на газете столько же квадратов начертил, только побольше размером, чтобы портрет увеличить. Гляжу во все глаза.
--Похож? -- спрашивает Шуляк.
-- Ага, здорово!
А тут и политрук пришёл, похвалил бойца.
-- Молодец, -- говорит, -- красиво сделал, быстро.
К Сталину присмотрелся.
-- Дай-ка открытку. Так. А почему у тебя на рисунке товарищ Сталин похудел?
-- Так война же, товарищ политрук.
Баба Поля кивнула одобрительно:
-- Всем тяжело, все голодают, даже Сталин.
На следующее утро Шуляк отнёс газету в часть. Сказал, что скоро придёт, надо плакаты рисовать.
Сын полка Вася Бахвалов в учениях чаще всего был раненым. Мальчишку с удовольствием таскали на носилках.
Однажды Вася решил сбегать домой. Это было нарушением, но он сказал:
-- А пускай думают, что я без вести пропал.
Уплетая мятку, брат сообщил новость:
-- Шуляк-то враг народа оказался. Сталина исказил. Расстреляли вчера.
Поразительный неслух был брат мой Василий Иванович! Все делал по-своему. Не бунтарски и не исподтишка, а тем не менее все переиначивал под свои законы. Наказания – а у бабы Поли за этим дело не стояло – как горох об стенку: толку никакого. Называла его "толстоголовый". Упорно он следовал импульсам своего характера – упрямого, бесстрашного и бесшабашного русского мужика. И прозвище имел – Кацап. От кого получил, не знаю, но – в точку.
А сам-то уж был мастер наделять других только ему понятными экзотическими псевдонимами. И казалось уместным Колю Пулина обозвать Петей–немцем. От того ли, что больно неожиданно, а только долго мы, пацаны, звали его так, и никак иначе. А Серега Бахвалов – "Китаец Ли". Никто другой – именно этот, так и не разгаданный многими, евстигнеевского обаяния, тоже сугубо русский человек…
Брата нашего старшего, Николая, Василий окрестил понятно: "Зиночкин" – амуры первые начались. А дальше, когда увлечения эти вразнос пошли, стал Коля "Сват – голубые яйца".
Толя Кирибейников, дружок закадычный Васин, глуховатый и приземистый, всю жизнь был "Толя Бык" – по фамилии его мало кто и знал.
Самое хлесткое, но меткое, присохшее намертво прозвище было у нашей тетки – "Дуня Бзда". Понятно, что филологические корни надо искать в лексиконе бабы Поли – она уж, бывало, ежели приложит, то отмыться невозможно.
В школе Дядя Вася учился, можно сказать, хорошо. По любознательности своей схватывал многое на лету. Но уроки учить – это увольте. Столько интересного вокруг! И все надо потрогать своими руками, а то и разобрать на детали или кусочки. Вот и получился из Дяди Васи автослесарь. Я мало что понимаю в машинах, видел только, как наезжали к нему домой:
-- Посмотри, Василий Иванович, забарахлила что-то моя колымага.
А в сарае стояли моторы, которые он на досуге перебирал. Меня железки не привлекают, я по деревяшкам, по столярному делу, и то не всерьез, так – хобби. Засвербит иногда, хоть умри, зачешутся руки, стосковавшись по рубаночку да по ножовочке… Потребность такая в организме вдруг проявится. И надо ее ублажить, иначе душа не на месте. Вроде лекарства, что ли, это хобби… А у Василия Ивановича это не временное и не блажное. Случай открыл мне такое в нем качество… Впрочем, по порядку.
Понадобилось нам сходить к магазину – по случаю воскресенья решили мы попить пивка. Ларек возле сельмага и стоял. Идти всего ничего, но бдительная Калерия Ивановна, жена Васина, застыдила муженька:
-- Да оденься ты по-человечески! Брата хоть не позорь!
Пришлось весьма неприхотливому по части моды Василию Ивановичу надеть выходные брюки и белоснежную нейлоновую рубашку. Все это мне хорошо запомнилось – больно празднично брат выглядел, непривычно. Ему куда больше по душе было что-нибудь замасленное, в заплатках…

Ну не любил галстуки дядя Вася
Выходим мы из калиточки на шоссе Приозерское, а тут "Москвичок" тормозит – приспичило дачнику в сельмаг заглянуть. Заглушил он мотор и не успел из салона выйти, как Василий Иванович будто знакомому говорит:
-- Заведи-ка.
Тот смотрит. Что, мол, зачем? И я, надо сказать, мало что понимаю.
-- Глухой, что ли? Заводи, говорю.
Как под гипнозом, водитель нажал на стартер, машина затарахтела. Дядя Вася послушал немного, открыл капот. Я уже сообразил, в чем дело, и объяснил ошарашенному автолюбителю, что бояться нечего – это специалист, и, видимо, что-то в машине не в порядке. С большим удовольствием играл я роль подмастерья, подавая брату инструменты. За некоторыми бегал домой… Пролетел час. Обтерев руки ветошью, Василий Иванович велел завести мотор.
-- Ну вот. Другое дело.
-- И правда, -- не верил своему счастью дачник, -- не стучит! Сколько я вам обязан?
-- Да пошел ты... Лучше машину свою береги…
В загвазданной нейлоновой рубашке, о которой мы совсем забыли, Вася предстал передо мной совсем другим человеком. Я увидел красоту настоящего мастера. И зауважал своего брата.

Хороша вода из Охты для поливки огорода!
Воля провидения
Отчим
Моряком я стал не по своей воле. От меня самого мало что зависело. Сиротское моё детство закончилось в мае 1945 года. Баба Поля, мама моего отца, воспитавшая меня, исполнила свой долг:
-- Вот доведу тебя до конца войны и помру.
И ушла к богу, в которого верила просто, по-свойски, беседуя с ним, стоя на коленях перед иконой в переднем углу.
С войны вернулся брат моей матери Иван Иванович Краско. Детей у него не было, и решили они с молодой женой усыновить племянника. Вот так я превратился из Ванюшки Бахвалова в Краско Ивана, а Ивановичем я был и прежде, утроив таким образом число Иванов Ивановичей в клане Краско.
-- У нас в роду Иванов, что грибов поганых.
Это баба Даша, другая моя бабушка, так высказывалась.
Из Вартемяк, родного моего села, переехал в Ленинград . В семилетке сельской учился я хорошо, закончил её успешно.

Вартемякская семилетняя школа, весна 1946 года.
Ученики шестого и седьмого классов, все блокадники
Внизу слева второй -- Ванюшка Бахвалов
У Бати-отчима, человека деятельного, доброго и весёлого не было сомнений, что я должен пойти в военное училище.

Батя был по дорожной части.
Последние годы занимал пост «мэра» посёлка Рощино.
Послевоенный 1946-й год. Дома хорошо, конечно. Однако, в военном училище на полном государственном обеспечении лучше, о чём тут говорить.
Батя-отчим оригинал был. С войны домой пришел с красавицей-женой Валентиной Петровной. Я в нее сразу влюбился.
-- Как дела?
-- Нормально.
-- В каком классе?
-- В седьмой пойду.
-- Отметки отличные?
-- Не все.
-- Будут все – куплю тебе ружье.
Я и так хорошо учился – с похвальными грамотами. Один раз в конце года премировали рубашкой А тут – ружье! Поднажал, конечно, вышел на одни пятерки. Ружье Батя не купил -- видать, забыл.
-- Давай, мы тебя усыновим.
-- Как это?
-- Будешь наш сын. Иван Иванович – так и останешься. А фамилия будет Краско. Как у Насти – мамы твоей. Согласен?
-- Угу.
Через некоторое время документ показывает. Свидетельство об усыновлении.
-- В городе жить будешь. Учиться где хочешь? В летчики пойдешь? Ох, там интересно! В центрифугу посадят, крутанут – голова закружилась или нет, смотрят…
-- Не, -- говорю, -- это я не выдержу. У нас качель круговая – я с нее один раз так навернулся!
Это предложение отпало по физиологической причине. Мой вестибулярный аппарат не выдерживал примитивных качелей.
-- Ну, тогда в моряки. Форма – красота!
-- В моряки – это лучше. Там в центрифугу не надо?
-- Нет.
А морское будущее будоражило. Романтика неведомая, тем не менее манила. Главное же -- красивая форма. И смутные мечты приобрели реальные очертания, когда было решено поступать в Ленинградское военно-морское подготовительное училище.
Готовились к приходу в училище капитально. Костюм мне белый пошили впервые в ателье по мерке, чтоб, как у настоящих мореманов. Портной все сутулость мою исправить хотел, плечики приладил. А мне в нем неуютно, вот уж точно – белая ворона! Ботинки новые, 38-й размер. Рост – 150 сантиметров. Вес – 48 килограмм. Богатырь!
Экзамены сдавал легко: сочинения, диктанты. Русский язык вообще любил. Математика, история – все на пять. И вдруг по химии – двойка! Всё! Рухнула моя морская карьера. Перед родителями стыдно. Стою, горюю. Подходят два моряка – с нашивками.
-- Корешок, дай корочки – в увольнение сходить, а то у меня, видишь, есть просят…
Подошва у его ботинка, действительно, шнурком притянута.
-- Вот тебе мои координаты, завтра меня найдешь…
На клочке бумаги фамилия и номер класса.
Снял я свои до блеска надраенные корочки, его рвань напялил, шнурком подвязал.
Домой вечером пришел, обувку злосчастную между дверьми спрятал. А Батя, как чувствует:
-- Что-то я твоих ботинок не вижу.
-- Да там они…
-- Где?
Как ни мялся, пришлось признаться. Показал "обнову" – Батя в хохот:
-- Вот так боты!
Мандатная комиссия
На следующий день решается моя судьба. Мандатная комиссия! Во главе с начальником училища Николаем Юрьевичем Авраамовым! Ко мне все с большим интересом – как это: все пятерки, а по химии – пара?
-- Сам что-нибудь понимаешь?
-- У нас химию учительница географии преподавала… Понять было невозможно.
Комиссия развеселилась. Один офицер спрашивает:
-- А что у тебя с обувью? Контраст большой с костюмом – в глаза бросается.
-- Да вот, -- говорю, -- дал одному курсанту поносить.
-- Кому?
-- Вот тут написано, -- подаю бумажку.
Они взглянули и сразу все поняли. А Иван Исидорович Комиссаров (надо же такую фамилию иметь замполиту!) красный весь стал, чуть не матом ругается:
-- Надули тебя, салага! У нас самый большой номер класса 344 – третий курс, четвертая рота, четвертый взвод. А здесь что написано? 452-й класс! И нет у нас курсанта с такой фамилией! Вот уж, действительно, Ваня!
Авраамов улыбается:
-- Ну что с тобой делать? Как, товарищи? Думаю, надо взять Ваню. Человек он, по всему видать, добрый: последних ботинок не пожалел. С химией подтянется.
А мне говорит:
-- Не горюй – завтра в баталерке новые корочки получишь…
Золотой телёнок
Батя определил в подготию. Надо было жить и учиться.
Делал я это добросовестно, потому как интересно. Отклонений, шалостей, бурсы меньше, чем у многих других. Ухари наши известны были, лихие моряки, заводилы насчёт выпить, девушек, отсюда самоволки. Это меня не задело. Смирен был по невежеству, полагаю. И воспитательный задел бабы Поли оказался прочным.

Первая фотография подгота.
1946 год

А это уже моряк, что надо.
У якоря перед главным входом в училище.
Курсант я был не самый яркий, но усидчивый, дисциплинированный, скромный. Стал командиром отделения, а потом и старшиной класса. Класс шкентельный, то есть самый малорослый, потому звали «полтора Ивана». Даже мой средний рост выделялся среди Толика Смирнова и Саши Пиотровского.

В начале жизни в училище нас стригли «под ноль»

Это я уже на третьем курсе подготии
В библиотеке училища я бывал часто, ибо читал литературу охотно.
Читал в основном мемуары великих артистов
На самоподготовке вместо уроков на завтра читал ребятам «Золотого телёнка». Само как-то установилось, что мне читать. Дверь закрыта шваброй. Хохот не мог не привлечь внимание начальства. Иван Сергеевич Щёголев резко постучал:
-- Откройте!
Швабру из дверной ручки долой. Начальник курса входит и выдаёт очередной филологический шедевр:
-- Командир отделения, как гвоздь в доску. Забили тебя и молчи!
А я и молчу уже. Только и успел крикнуть:
-- Смирно!
Весь класс невинно ест глазами начальство.
-- Два наряда вне очереди!
-- Есть, -- отвечаю, а сам мысленно произношу: «Подумаешь, наказание».
Иван Сергеевич хорошо понимал нас и строго не наказывал.
Тяга к изящному юмору была сильнее: «Телёнка» дочитали до конца.
Что-то проклёвывалось чтецкое у курсанта Ивана Краско уже тогда. Самодеятельность давала кое-что для души.

Пишем сочинение на аттестат зрелости по Тургеневу на тему о любви. 20 мая 1949 года
Потрясение
Ещё в училище прочитал фолиант «О Станиславском». Это было потрясение. Помимо дат, событий (Славянский базар, создание МХАТа) мне почему-то было известно или, скорее, понятно, «о чём театр», все их разговоры, чувства этих корифеев.
Библиотекарь, низкий ей поклон, заметила волнение моё, когда я попросил ещё что-нибудь в этом роде. Я высказал удивление впечатлением от прочитанного. Она пояснила:
-- Всё правильно. В основе восприятия психо-физика человека. У нормальных людей она одинакова. На этом построена система Станиславского.
Процесс, как говорится, пошёл! Считаю, здесь начало, Зерно пустило росток.

В увольнении с Колей Зиминым.
Уже тогда я не расставался с книгами о театре
Главный поворот произошёл поздно, на последнем курсе, когда решился пойти в кружок художественного слова. И тут потрясаюший жест судьбы -- разговор с Язовицким. Везло мне на таких людей. Может, потому, что сирота.
Мечта одна -- театр. Инерция, однако. Игры с флотом -- несерьёзная, странная необходимость. Промысел ли божий, справедливость ли высшая от Природы вели меня. Любопытно вот что: прорвался нарыв.
До того всё шло по течению.

Октябрь 1951 года. Начало учёбы на третьем курсе
высшего училища. Мой 334-й класс

Практика на Севере. 1952 год.
С нами командир роты Борис Семёнович Пороцкий

Вот пять однокашников. Много лет учились в одном классе.
Но какие у всех разные судьбы!
Решающий поворот
В училище была неплохая самодеятельность. Мой сокурсник Арно звонко читал стихи, что-то вроде: "Стыдись, Америка!". Публицистика в духе того времени. Теперь об этом вспоминается с улыбкой, а тогда мне нравилось, и я немного завидовал Гарри. И решил научиться читать не хуже. Для этого пошел в кружок художественного слова.
Там занимались первокурсники, человек двадцать. Когда я, курсант последнего курса, с погонами мичмана, вошел, они встали – так положено по уставу. А руководитель – Язовицкий Ефрем Владимирович, высокий мужчина с густыми бровями, смотрел на меня с удивлением и не мог понять, зачем я пришел так поздно.
-- Через полгода вы уйдете на флот. Стоит ли вам терять время?
Я сказал, что очень хочу заниматься художественным чтением.
-- Хотеть, конечно, вы можете. Ну, что ж – извольте приготовить басню, стихотворение, прозу – отрывок из рассказа, повести… Принимаем мы в кружок на общих основаниях. Вот они, ваши юные коллеги, и решат, есть у вас данные или нет.
Первым делом я выучил басню Крылова "Мартышка и очки". Дома я читал ее выразительнее народного артиста Ивана Любезнова, из Московского Малого Театра. Он тогда много концертировал с "побасенками", выступал по телевизору. Во всяком случае, как мне казалось, я ему ни в чем не уступал. Перед кружковцами же, которые приготовились меня экзаменовать, я вдруг потерял всякую выразительность, голос и не думал слушаться меня, а тело стало деревянным.
Выступление мое прошло в гробовой тишине. Аудитория сочувствовала мичману, который оказался бездарным. Мастер слова Язовицкий безжалостно подвел итог:
-- Плохо. Очень плохо. Вам не надо этим заниматься.
Мое обескураженное оправдание:
-- Но дома у меня получалось! – вызвало дружный хохот присутствующих.
-- Конечно! Дома у всех получается. Для мамы или бабушки вы вообще гений.
Я не воспринимал язвительности. Какое-то упрямство сделало меня смелым. В том, что происходило, была несправедливость. И нельзя было допустить, чтобы она торжествовала. Я почувствовал, что если сейчас не докажу, что я не бездарь, то потеряю все.
Быть или не быть! И тон, которым я заявил, что дома у меня действительно получалось, видимо, убедил Ефрема Владимировича. А может, его возмутило мое упорство. Скорее всего, именно так, потому что он резко открыл дверь и приказал этим "салажатам" выйти. Потом закрыл дверь на ключ, сел на широкий подоконник и, отвернувшись от меня, прорычал:
-- Читай!
Я долго не мог собраться. Пауза затягивалась. Язовицкому надоело любоваться пейзажем – из окна был виден плац да кирпичная стена тира.
-- Ну, моряк ты или нет?! Читай!
Закрыв глаза, я рассказал "Мартышку и очки" так, как я слышал ее внутри себя, как у меня "получалось дома". И произошло чудо. Язовицкий встал. Кажется, он вырос еще больше. На меня надвинулся великан, на мое плечо легла его лапища, и я услышал:
-- Сынок… Я не знаю, что ты будешь делать на флоте, но без театра тебе не жить.
Душеспасительная беседа
Ещё в училище рассказал о своих душевных терзаниях Пороцкому Борису Семёновичу, командиру роты. Хотел уйти из училища.
-- Куда? На флот, матросом? Пять лет, Ваня, разве ты выдержишь?
-- Что же делать?
-- Мой совет -- закончить училище, а там видно будет.
Спасибо Борису Семёновичу! Умница, удержал от глупого шага.
Служба кончилась, на автопилоте прошёл экзамены, диплом с отличием.

Североморск, лето 1953 года.
Стажировка на эсминце.
Мичманы Джемс Чулков, Жора Вербловский и я.
Этот медвежонок нам знаком ещё по прошлогодней практике

Мы крепко дружили,
но у каждого из нас были
свои мечты