



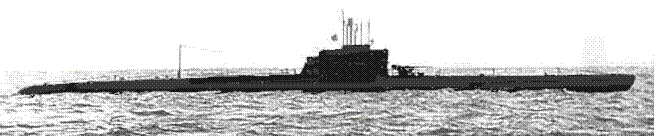
© Клубков Ю. М. 1997 год
|
|
  |
 |
|
|
© Клубков Ю. М. 1997 год |
|||
|
Окончание
Наставники и партнёры
Дебют
Я дебютировал в БДТ в роли Володи – жениха главной героини "Старшей сестры". Счастливая пора! В Татьяну Васильевну Доронину я влюбился не только по необходимости и желанию автора. Меня покорила еще ее Монахова в "Варварах".
В неё тогда все мужики были влюблены. И как было не влюбиться?
О чем пьеса Володина? Сразу и не понять. Первое, что приходило в голову – она против здравого смысла Вопреки всему Надя становится артисткой. Ее дядя навязывает девочкам свой образ жизни. Он заботится о племянницах, хочет им только хорошего, но в этих своих благих стараниях слишком усердствует. Тут недалеко и до культа личности. Тихий, стеснительный Александр Моисеевич Володин одарил мою роль собственным характером. И назвал-то – Володя. Репетировали подробно, добротно. Роза Абрамовна Сирота в разборе предлагаемых обстоятельств была дотошна и точна. Когда все было готово, спросила, а как это Володя нашел Надю – прошло ведь несколько лет. -- Любит он ее – тут и думать не о чем. -- Пошел вон, иди играй своего жениха, -- так Сирота благословила меня на дебют в БДТ. Георгий Александрович Товстоногов, как постановщик спектакля, занялся нами после комнатного прогона, уже непосредственно на сцене. Мой эпизод назывался "Сватовство". Но недели две репетировалась предыдущая картина. Сестры Резаевы возвращаются из Театрального института, куда поступала младшая – Лида (Алина Немченко). Надя пошла ее поддержать, но благодаря режиссеру, знавшему ее по самодеятельности, поступила на актерский факультет сама. Мне очень нравилось, как Таня Доронина читала отрывок из статьи Виссариона Белинского. "Любите ли вы театр так, как я люблю его…" Заканчивалось бурное обращение к комиссии не словами автора: "Идите и умрите в нем, если можете!", а горячей просьбой, мольбой: "Если вы на самом деле любите театр так, как я люблю его, то идите и умрите в нем, если можете, я вас очень прошу – послушайте еще раз мою сестру!". Это был поток кипящей лавы! Надя думала только о сестре, не понимала, зачем ее просят читать статью Белинского и очнулась только тогда, когда комиссия сообщила, что она принята в институт, а Лида – нет… И вот они втроем – дядя встретил племянниц около дома – входят в комнату. Надя безмерно счастлива – о таком можно только мечтать! Дядя острит: -- Артисткой будешь? А куда пойдешь – в балет или в оперу? Евгений Алексеевич Лебедев, как всегда неистощимый на выдумки, изображает маленького лебедя, поет "О дайте, дайте мне свободу!" – и все в зале хохочут. Но дядя отрезвляет Надю, возвращает ее на землю. Нельзя сейчас бросить работу и стать студенткой. Кто же выведет в люди младшую сестру? На стипендию двоим не прожить. Надо думать не о себе, а о Лиде. Сникает веселье. Надя соглашается с доводами дяди. Они резонны, ничего не поделаешь, то ли дело раньше – в детском доме было так беззаботно… Понятная, очень жизненная ситуация! Товстоногов, однако, недоволен: -- Зачем в пьесе эта сцена? – спрашивает он у Володина. – Какую новую информацию она содержит? -- Ну, как же, -- краснеет Александр Моисеевич, -- мне кажется, она необходима… -- Если ее выбросить, будет только лучше для спектакля! -- Ну, не знаю… Попробуйте выбросить… -- Что значит "попробуйте выбросить"?! Вы говорите ерунду, понимаете? Зачем-то она у вас есть? Легче всего выбросить… Надо сказать, мало кто понимал претензии режиссера к автору. Сцена шла динамично, весело. А Гога просматривал ее по несколько раз, и то задумывался надолго, то начинал доказывать Володину, что этот эпизод в пьесе лишний. -- Не ради же кривляний дяди вы его написали? Александр Моисеевич, безусловно уважавший талант постановщика и доверявший Товстоногову после триумфальных "Пяти вечеров" с Зинаидой Шарко и Ефимом Копеляном, тем не менее ни в какую не соглашался на сокращения в пьесе. Тихое, упорное сопротивление продолжалось, как я уже сказал, недели две. И вот Товстоногов пришел на репетицию какой-то сияющий, загадочный, подозвал Доронину, и долго что-то шептал ей, перемежая свои секреты характерным "понимаэте?". Таня поняла и тоже засияла. -- Нам-то что делать? – спросил Лебедев. -- Играть по-прежнему. В репетиционной в тот день было полно. Актеры, критики, студенты… И все, заинтригованные тайным сговором режиссера и актрисы, затихли в ожидании разгадки. Все шло, как обычно. Дядя шутил, Надя смеялась. Дальше – больше. Вовлеченный в общее веселье, я не заметил, как что-то изменилось. Дядины резоны не успокоили Надю, не остановили, а усилили ее радостное возбуждение, которое превратилось в истерику. Вот этот переход я и прозевал. Неожиданное ощущение стыда я помню до сих пор. Как я мог быть таким тупым, бесчувственным зрителем, чтобы не разглядеть чужой беды, да что – беды! – трагедии! На моих глазах рушится мечта талантливого человека. Судьба дает Наде шанс стать тем, кем она и должна быть – актрисой, но реальная жизнь… Дядина обывательская мудрость превращает мечту в блажь. Душа Нади бунтует: она чувствует, что так быть не должно, тут что-то неправильно, какая-то ошибка, но по какой-то причине ТАК НАДО. Мощный протест героини пьесы Володина вылился в воспоминания о детском доме, где все были равны и беспечны! Хоть и не знали дней своего рождения, праздновали вместе, кто на "Л" – Лена, Люда, Лида, -- какая разница?! В моей памяти – сумбур подробностей, но удар по тому месту, где у человека спрятано сострадание, я получил. И совесть моя, отдыхавшая, может быть, встрепенулась и заставила меня осторожно оглянуться – не заметил ли кто моей черствости, душевного моего позора. Показалось мне тогда, что не одинок я в своем состоянии. Все схлопотали нокдаун. Это был, выражаясь языком научным и "штилем" высоким – катарсис. И это же потрясение испытывал потом на спектаклях зрительный зал… Вот такой урок преподнес нам в то утро великий режиссер Товстоногов. Личная неурядица Нади Резаевой всколыхнула у каждого подспудные подозрения, что не все ладно в нашей жизни… Об этом была пьеса. И заключил всю эту историю Георгий Александрович, как и подобает режиссеру - постановщику: -- Ну что, уважаемый драматург, понятно теперь, о чем вы гениально написали эту сцену?
Театральный обман
История простая. На одной из встреч мне задали такой вопрос: -- А как я отношусь к тому, что профессия актёра -- это в принципе -- обман. Я на это сказал, что да, конечно, такая это профессия. Мы знаем, что артистов называют скоморохами, а иногда притворщиками, лицедеями, обманщиками, так как артист редко бывает самим собой. Однако, надо определить, что представить в идеале, какую цель, какую задачу поставить перед собой. И потом вы тоже, наверное, понимаете, что обман обману рознь. Существует ведь и ложь во спасение! Если это с добрыми намерениями, то врач не может сказать больному, что тот обречён. В этом есть гуманность, так как неизвестно, чем голая правда может кончиться. Так же иногда обманывают детей с целью отвлечь просто и всё, чтобы ребёнок забыл, например, дурное слово или от какого-то каприза. Это бывает очень часто. Отвлечение -- это тоже обман. В связи с этими рассуждениями в ответ на поставленный вопрос я вспомнил и рассказал историю из собственной жизни. Один из моих приятелей, торговый моряк, вернулся из заграничного плавания и привёз шубу-дублёнку. Тогда у нас они только появились и были в моде, но купить дублёнку было невозможно. Когда я зашёл к приятелю в гости, он сказал: -- Ну-ка, Иван, примерь. Надел я шубу и ахнул: длинная, красивая, добротная и по мне. Приятель говорит: -- Ну как будто на тебя сшита. Слушай, я же купил её на продажу. Я спрашиваю: -- А сколько стоит? -- Ой, Иван, дорого. Тысяча двести. В театре я получал тогда семьдесят пять рублей. Я говорю: -- Да, конечно. -- Иван, я тебе её за восемьсот отдам. Уж больно хорошо она на тебе сидит. Я думаю: восемьсот !? Ну, дай бог, подвернётся кино (там платили более или менее прилично), если ещё роль хорошая, вроде сержанта милиции. Ну радио и телевидение что-нибудь дадут. Может, халтурки и выручат, чтобы для семейного бюджета особого урона не было.
Выручали ещё выступления в концертах с чтением стихов и рассказов -- Да? -- Ну конечно, Иван, тебе по дружбе -- в рассрочку. -- В рассрочку? Тогда я беру. -- Иди в шубе домой, а для твоей куртки на тебе мешок. Теперь начинается история. Я прихожу домой и своей жене, Кире Васильевне, говорю: -- Смотри, мать, на мою обнову. Кира моя обрадовалась: -- Ой, Ваня! Как хорошо! Дорогая, небось! -- Да, мать, дорогая. -- А сколько? -- Пятьсот. -- Пятьсот? Ой, как дорого! Ваня, но уж очень хорошо на тебе сидит. Давай возьмём, но маме скажем -- триста. А тёща моя -- удивительная женщина, человек прекраснейший. Она увидела, узнала, что -- триста, и говорит: -- Дорого, конечно, ну да ладно. Ведь Ванечке нашему так она идёт! Таким образом, я несколько лет зимой ходил одетым по моде, почти пижоном. Так что? Этот обман кому-нибудь вред принёс? Всем только в радость. Очень смеялся Даниил Гранин, когда я рассказал ему эту историю. А театральный обман служит для воспитания душ человеческих. Правда, часто он воспитывает идеалистов. Но лучше уж это, чем цинизм, злоба, низость. Театр должен прививать благородные чувства!
Корифей театра
Товстоногов Георгий Александрович. Гога. Его обожали и боялись. Любили и ненавидели. Мало, кто мог остаться равнодушным к этому человеку. Характер восточный: не всегда он был прав – по горячности мог вспылить, но если понимал, что ошибся – пытался выправить ситуацию. Не то, чтобы извинялся или просил прощения – такого не наблюдал, но очень тонко переводил разговор совсем в другое русло, снимал с оппонента напряжение, и как-то само собой получалось, что конфликт иссякал, казался недоразумением, пустяком… Репетиция "Поднятой целины". Мы с Кириллом Лавровым (он – Давыдов, я – Разметнов) на переднем плане сцены гадаем, кто стрелял в Нагульнова. Никакой психологической сложности – чистая информация – было покушение… А с точки зрения построения спектакля – это интермедия, ее можно убрать, ущерба для постановки никакого: нужна она для того, чтобы подготовить одну из основных картин – общее собрание. Репетиционное время кончилось. Георгий Александрович сказал, что завтра начнем с этого же места. Претензий у режиссера к исполнителям не было. На следующее утро я добросовестно повторил то, что делал накануне, и тут по всему театру прогремело: -- Ваня! Что это? Вас так и тянет на авансцену! И не вещайте, как заезжий гастролер! Это было настолько неожиданно грубо, а главное, несправедливо, что я не сразу понял, что происходит. В ушах зазвенело от внезапно обрушившейся тишины. -- Ну! Что вы молчите? И здесь из меня прозвучало: -- Если режиссер вчера просил артиста сделать так, как он только что повторил, но сегодня его, режиссера, это не устраивает, то, может быть, он, режиссер, не знает, чего хочет?! Время остановилось. Театр замер. Боковым зрением засекаю только одно, как в замедленной съемке, беззвучное движение: Кирилл Лавров, не меняя позы, вдвинулся в кулису, будто его на сцене вовсе не было. Из прострации меня вывел вынырнувший откуда-то снизу Георгий Александрович. -- Ваня, вы меня слышите? Должно быть, он уже что-то сказал, но я не воспринял. И, вообще, я был не совсем я. Некий наблюдатель со стороны протокольно фиксировал дальнейший разговор. -- Ваня, это проходной эпизод, понимаете? Играть его надо на одной ноге, как говорится. Давыдов и Разметнов вышли "до ветру", понимаете? -- Понимаю. -- Нет, вы не совсем понимаете, Ваня. Засиживаться здесь не надо. Перестановка идет быстро… -- Да, я все понимаю, Георгий Александрович. – Эту фразу мой двойник явно наполнил подтекстом, адресованным только собеседнику, который без труда прочитал его. -- Ваня, успокойтесь. Все очень просто… --Я понимаю. И это было сказано опять же о другом. "Нельзя так – не только со мной – с любым артистом надо по-человечески!" -- Вот что втолковывал председатель месткома главному режиссеру театра. Я впервые увидел, что Товстоногов – сам Гога! – растерян. В актерской практике есть такое понятие – пристройка к партнеру. Она может быть сверху, когда ты хозяин положения, и снизу… Меня отнюдь не радовало, что в данном случае условия диктовал я. Впрочем, это была не игра. Сдвинуть меня ничто не могло. Потому что я был прав. -- Можно, мы начнем сначала? -- Да, конечно, Ваня! Прошли интермедию. Как надо, быстро, без нюансов. -- Вот, правильно. Совсем другое дело. Идем дальше… Выхожу в левую кулису, где ждет меня Всеволод Кузнецов. Похлопал по карманам моей гимнастерки. Смотрю на него: -- Что? Не понимаю. -- Проверь, заявление об уходе из театра в кармане не лежит? -- Сева, это не так смешно, как тебе кажется. Назначенное после репетиции заседание месткома я отменил. Нелегко далась мне "беседа" с Гогой… Прямо со сцены иду в актерский гардероб, одеваюсь. Входит Георгий Александрович: -- Ваня, вы по обыкновению на телевидение? Никакого телевидения у меня в этот день не было. А разговаривать с шефом по поводу утренней стычки было выше моих сил. Потому я и брякнул: -- Да, на телевидение. -- Я вас подвезу. Мне по пути. Ничего себе! Нарвался… Глупее не придумаешь… Но… назвался груздем, полезай в кузов режиссерской "Волги". Выезжаем на Фонтанку. -- Скажите, Ваня, какой пост занимает ваш герой Разметнов? -- Да какой это герой, Георгий Александрович! – Полемический задор еще клокочет в моей бойцовской душе (да и не об этом речь, мастер)! – Герой… Это вообще не роль, а функция. -- Как это? -- А так. Разметнов приставлен к Нагульнову, к Давыдову, даже к Лушке и деду Щукарю! А самостоятельно он -- пустое место… -- Вот это я пока и вижу, к сожалению. И хочу понять, какие отношения у вас с Давыдовым и Нагульновым. Они ваши начальники? -- Нет. Разметнов – председатель сельсовета. А Давыдов – председатель колхоза, который на моей территории. Он не может быть главнее меня. -- А Нагульнов? Он же партийная власть? -- Да какая там власть? В партячейке только мы трое и состоим. Нагульнов вроде комиссара… -- Значит, вы им не подчиняетесь? И, если не над ними, то, по крайней мере, наравне, так? Я, грешным делом, усомнился, читал ли шеф Шолохова, и радостно подтвердил: -- Ну, конечно! -- Ваня, в этом все дело! Товстоногов остановил машину, потом, к полному моему недоумению, развернулся и поехал обратно. -- Сейчас я вижу на сцене не Разметнова среди равных ему по положению Давыдова и Нагульнова, а молодого артиста Ваню Краско, который даже с подобострастием смотрит на своих знаменитых партнеров – Лаврова и Луспекаева! Понимаете? Пристройка не та. Вы с ними, разумеется на "вы"? -- А как же… -- Это безобразие… Луспекаев и Лавров еще не ушли? Срочно ко мне! Мы, оказывается, уже въехали во двор театра… Я ошеломлен проницательностью Георгия Александровича, его зорким режиссерским глазом, разглядевшим на сцене жизненную ситуацию, которая мешает правде характера моего героя! Несколько настороженные, если не испуганные, Луспекаев и Лавров стоят на пороге кабинета главного режиссера БДТ. Вызов к Гоге, да еще срочный, -- это ЧП. -- В чем дело, ребята? Надо помочь Ване. Вы должны быть на ты. Не знаю, как это у вас, на брудершафт выпейте, что ли… Кирилл Юрьевич хлопнул меня по плечу: -- Ну ты, старик, даешь… Я уж думал, что случилось… А Павел Борисович с украинским акцентом – очень он здорово репетировал Нагульнова – взахлеб, с азартом – прямо в кабинете начал урок актерского мастерства: -- Шо такое? Я к тебе, как к человеку, а ты мне – "вы"? Как это понимать? А ну, выйдем! Георгий Александрович рассмеялся – легко, освобождёно… Много позже я догадался, что смех этот был вызван не импровизацией Луспекаева, а благополучным исходом нашего утреннего столкновения… А я в тот момент о нем уже и думать забыл. И, пожалуй, был рад, что так все закончилось.
Товстоногов был выдающийся режиссёр, и шаржи на него рисовали постоянно
Посвящение в тайны
Иду, улыбаясь, за Павлом Борисовичем, а он говорит: -- Стоп. Ты куда идёшь? -- За вами. -- Так. А шо Гога сказал? -- А что он сказал? -- Он сказал, чтобы ты в лавку сбегал – на брудершафт пить будем. С поллитрой пришел в гримерку к Пал Борисычу. Впервые! -- Наливай! – команда лихая, по-нагульновски, словно шашкой рубит. Скрестили руки, как положено, по полстакана выпили, расцеловались. -- Вот це гарно! Как меня кличут? -- Павел Борисович. -- Отставить! Паша меня кличут. Ясно? -- Ясно. -- Ну так шо там твой Разметнов? -- Да вот, -- говорю, -- Георгий Александрович разглядел, что отношения у нас неправильные. -- А почему? -- Не знаю. Мне вообще роль не нравится. Болтается этот Разметнов… как цветок в проруби со своей парусиновой "портфелею". -- Так. А шо це такэ – ция портфеля? -- А хрен ее знает… -- Э-э! Андрюшка! (Паша уже воспринимает меня, как Разметнова). Портфеля твоя – атрибут власти! Вот пришел ты на стан, никому до тебя дела нету – все работают, а ты ведь председатель сельсовета. Шишка! Как показать, что главный здесь ты, а никакой ни Давыдов или, тем более, Нагульнов? Вот тут портфеля твоя и выходит на первый план. Можно сказать, впереди тебя идет! "Видите? То-то". А кто не видит, в нос портфелю сунь, сказано, атрибут власти, уважать должны… Слушаю, зачарованный, Пашу, и оживает портфель, из обузы, помехи становится необходимой вещью, привычной и любимой, с которой Разметнов не расстается даже во сне… И это немного смешно… даже трогательно… -- А Лушка? Шо такое Лушка? Пытаюсь уловить суть: -- В смысле, женщина, что надо? -- Ну, шо это за определение? "Женщина, что надо". Ни то, ни сё. Андрюха! Ты всю Европу прошел! -- Нет, Пал Борисыч… -- Отставить! -- Есть! Паша… Вы не правы… -- Отставить! -- Ну, хорошо. Паша. Ты. Но во время гражданской войны мы в Европе не воевали. Это в Отечественную… -- Один хрен! У тебя, Андрюха, боевого казака, было семьдесят восемь баб! Разумеешь? -- А-а… -- А-а! А тут перед тобой сама Лушка! Да если б не мировая революция, Андрюха, я бы с нее не слазил! Поскольку Лушка – это вывернутая наизнанку п… И Паша с упоением, достойным, как говорится, "кисти Айвазовского", посвящает меня в святая святых истинного, а не книжного обожания женщины. И нет никакой пошлости в том, что называет он всё своими именами, не скабрезно это звучит в его устах, а красиво, возвышенно, вдохновенно… Когда премьеру "Поднятой целины" показали в Москве, на следующий же день в "Неделе" появилась восторженная рецензия. На всю страницу. Три четверти – о Нагульнове - Луспекаеве, воплотившем образ рыцаря революции – настолько живого, достоверного, что когда он, Макар Нагульнов, в конце собрания запевал "Интернационал", зал вставал и пел вместе с артистами… Прибегаю в номер к Паше, чтобы обрадовать, лепечу что-то, мол, это справедливо и, будь я журналистом, написал бы точно так же… Паша лежит поверх одеяла, на мои восторги ноль внимания. -- На тумбочке, -- говорит, -- красным подчеркнуто. Смотрю, "Неделя". Он уже прочёл. В отличие от меня, до конца. Потому что я только про него, а дальше, как говорится, "и другие"… А подчеркнуто вот что: "Масляно улыбаясь в пшеничные усы, как кот, смотрит на Лушку Разметнов (И. Краско)". Одна фраза, но до чего приятно! А Паша, кажется, больше меня рад. И не лень ему было подчеркивать! -- Ну. Кто тебе это сделал? -- Конечно ты, Паша. -- Вот и получается, что прав был Гога. Беги обратно в лавку…
Признанный гений
О Луспекаеве уже доводилось писать. В небольшой книжке о нем есть и моя заметка – тогда я просто рассказал о том, что было Теперь и помнится, и думается иначе. "Белое солнце пустыни". Жизнь распорядилась так, что Верещагин Луспекаева затмил Сухова. А ведь Анатолий Кузнецов сыграл свою роль, честно говоря, не хуже. И персонаж его – главный. Но Паша смертью своей потряс Россию, и богатырь Верещагин волею судьбы превратился в памятник великому артисту.
Паша в роли Аркадия Гайдара. Какое обаяние!
О Луспекаеве можно сказать, как об Эдмунде Кине – беспутный гений. Бесшабашность крайняя! Таким людям никто и никогда не мог предложить, скажем, вступить в партию – устои последней были бы взорваны изнутри! Вранье, фальшь Паша различал мгновенно – у него на неправду было какое-то звериное чутье. И зверел он бесконтрольно и необузданно. Самый последний разговор у нас случился на "Ленфильме" утром. Небритый, мрачный, хмельной, как мне показалось, сидел Павел Борисович у самого входа. -- Паша, что случилось? -- Дай сигарету. Я слишком хорошо знал, что курить Луспекаеву категорически запрещено. Но и отказать было невозможно. Он делает две затяжки. Будь вы свидетелем этого процесса, вы бы увидели: от первой затяжки огонь сжирает половину сигареты, после второго вдоха остается один пепел… -- В раздрае я. Всю ночь с Гогой по телефону трындели. Вижу, недоволен Паша Товстоноговым. -- И о чем был разговор? -- Хочет, чтобы я Бориса Годунова сыграл. Пушкинского. -- Паша! Вот это да! Твоя роль! Кому же, кроме тебя! – Я, можно сказать, зашелся от восторга, но Пашино молчание добра не сулило. -- Все сказал? Ты в книжках своих вычитал – кто-нибудь Годунова сыграл? Я замялся. И тут же нашелся: -- Шаляпин спел! -- Вот, твою мать, мне только и осталось, что петь. Ванюшка, эту роль нельзя сыграть, в ней только подохнуть можно! Вот тебе и полуграмотный Луспекаев! Была ведь в ходу шутка Игоря Горбачева, что Паша и "Мойдодыра" в подлиннике не читал! Не в образовании тут дело. Талант определяет меру ответственности. "Никто не сыграл. Почему я должен?.." Все мы читаем Пушкина. И думаем, что знаем. Для нас "мальчики кровавые в глазах" – умозрительный образ. Гений – и написал гениально. Но для кого написано-то? Для актеров. А много ли среди них гениальных, адекватно автору? То-то и оно. Нашелся из тысяч один. С абсолютным слухом на правду.
М. Горький, «Варвары». В роли Черкуна. Рисунок А. Гаричева
Мудрый учитель
Паша тонко, деликатно, опекал меня в совместной работе на телевидении. В "Жизни Матвея Кожемякина", где он играл центральную роль, я был назначен на роль слуги его, татарина Шакира. На первой читке меня не было, и Паша спросил Ирину Львовну Сорокину – режиссера, кто будет играть эту роль. Все присутствующие заметили, что вопрос этот неспроста. -- Если бы не Кожемякин, я бы выпросил у тебя Шакира, -- заявил Паша. И рассказал, что в Щепкинском училище, в дипломном спектакле "На дне" играл татарина. И так его тут же показал, что все зааплодировали. Вечером Ирина Львовна позвонила мне и радостно поведала: -- Это чудо какое-то! Попроси Пашу – он тебе покажет. Простодушное предложение ничуть не смутило меня, и при первой же встрече с Пашей я обратился к нему с просьбой показать этого самого татарина. Он не сразу ответил. Долго смотрел на меня каким-то больным взглядом, и стало ему тошно. Это я видел. -- И ты что же, с моего показа играть будешь? А я-то тебя за артиста считал… Несколько дней я не мог от стыда поднять глаз своих на Павла Борисовича, и он не проявлял ко мне никакого интереса… Репетировали "Кожемякина" подробно, потом начались съемки. На последней верный слуга Шакир подходит к постели умирающего барина и, вздыхая от горя, прицокивая неодобрительно, бормочет: -- Ох, нехоруша… Зачем хвораешь? Ах, шайтан… У Горького речь выписана блистательно, с транскрипцией. Дураком надо быть, чтобы не увлечься ею и не воспользоваться, как главным выразительным средством! И вот так, покряхтывая по-стариковски, выговаривая Матвею, как мальчишке, что мол, не дело это – болеть, поправляю подушку и вижу, что хочет Паша повернуться на другой бок. Помогаю ему. Грузно он переворачивается, оказываясь спиной к камере. Оператор Миша Филиппов, который чутко ловил каждое движение Луспекаева в кадре, перешел на крупный план: сотрясаемый рыданиями Кожемякин отвернулся от мира, из которого уходит… Затихла студия – Паша сыграл, как всегда, грандиозно. -- Стоп! Спасибо, Пашенька! – счастливый голос Ирины Львовны Сорокиной. Паша еще некоторое время лежит, затем садится на кровати, и я, не веря глазам своим, вынужден поверить ушам: он хохочет! Никакой трагедии! И смотрит на меня: -- Ну? И ты еще хотел, чтобы я тебе что-то показывал! Ты самого Луспекаева расколол!
Я в роли татарина Шакира, которую мечтал сыграть Луспекаев
"Расколол" – на актерском языке – рассмешил. Часто это делается умышленно. "Расколоть" партнера бывает даже делом чести, и многие театральные курьезы такого рода живут в легендах веками. Но с моей стороны, конечно, и в мыслях ничего подобного не было. Услышать такое от Луспекаева – все равно, что орден получить из рук маршала. Это ведь он мне какой урок преподал! И просьбу мою дурацкую, которую он как личную обиду принял, не забыл и, как мудрый учитель, простил. Надумала Ирина Львовна Сорокина сделать телеспектакль по пьесе А. Штейна "Гостиница "Астория". Главная роль, конечно, Луспекаеву. Прочитал Паша пьесу, она ему понравилась. -- А кто будет играть Рублева, к которому от меня жена уходит? -- Ваня Краско. -- Что? Ты с ума сошла? Где это видано, чтобы от меня баба ушла к этому шибздику Ваньке Краско? А я-то, дурак! Знаю, что вас, баб, к режиссуре нельзя подпускать на пушечный выстрел! Жизнь надо знать, дура! Вам искусство, что игра в бирюльки! Вон отсюда! В бешенстве Паша был страшен. И не разбирал, кто перед ним. Распахнув дверь квартиры, он вышвырнул пьесу на площадку и выгнал несчастную женщину. -- Чтобы ноги твоей здесь больше не было! Когда Ирина Львовна, рыдая, рассказывала мне это по телефону, мне казалось, из трубки вот-вот хлынут слезы… И только мой неудержимый смех успокоил ее. -- Ириша, он, к сожалению, абсолютно прав. По этой части я перед Пашей сморчок. Так что ты подумай о другом артисте. Я без обиды… -- Только ты, ради Бога, ему ничего не говори, а то он меня убьет… Дня через три звонит снова. На этот раз, заливаясь счастливым смехом: -- Ваня! Паша мне позвонил. Сам. Извинился, представляешь? Говорит, что подумал и согласен, чтобы Ванюшка был Рублевым. Он все-таки гений, Вань! Дело, говорит, не в мужском органе, а в башке!
Социальный герой
В Луспекаевском укоре в мой адрес – "все книжки читаешь…" – было и одобрение. Но больше сожаления, что не знаю я реальной жизни… Актер все должен пережить, испытать. Сам. "Без понтов", – так говорил Паша. "Понт" – трюк, фокус, то есть обман. "Понтарь" – презрительнее оценки для актера нет. Луспекаев про нашего брата знал, кто чего стоит. Г.А.Товстоногов в газете "Смена" написал о молодом артисте Иване Краско, как о социальном герое, который на сцену выносит то, что исповедует в жизни. Похвала. И были на то основания. Меня уже – к четвертому году пребывания в труппе БДТ – избрали председателем месткома. Я старался работать честно. В профсоюзной работе – "школе коммунизма" – искал человеческий подход, потому и дров наломал немало. Выступил, к примеру, на общем собрании с отчетом о результатах "Смотра организации труда в театре". Сказал о том, что молодежь ролей не играет, не знает своих перспектив, что зарплаты низкие, а надо думать о будущем. Помню, слушали меня, затаив дыхание. Еще бы: слыханное ли дело – на кого замахнулся, на самого Товстоногова! А в докладе он был прямо назван хозяином театра. Хозяин этой крамолы, разумеется, терпеть был не намерен. Первым взял слово и буквально раздавил "уважаемого докладчика", как он язвительно именовал меня, разнес в пух и прах! Зинаида Максимовна Шарко очень долго надо мной смеялась: -- Что ты, миленький! Какие перспективы? "Золотая дюжина", пока жива, будет держать репертуар в своих зубах. Целый месяц Георгий Александрович игнорировал меня, как личность. Не разговаривал, вообще не замечал, завидев издали, уходил, не желал видеть. А на очередном собрании объявил, что в театре наконец-то оживилась общественная работа. Он понял для чего существуют профсоюзы, и главная заслуга во всем этом благотворном для театра деле принадлежит новому председателю месткома. Шок для присутствующих был не меньшим, чем на предыдущем разгроме. А скоро и эти слова в "Смене" о социальном герое, как моем амплуа. Парадоксальность Товстоногова удивила кого угодно, только не Луспекаева. -- Конечно, -- сказал он, -- такие артисты, как ты, Ванюшка, да Олежка Анофриев, как вши на окопном солдате, без вас никуда…
А куда было деться в те времена от таких вот социальных?
Он, конечно, заметил, что меня передернуло от "лестного" сравнения. -- Ты, что, обиделся? Чудак-человек! Я не в смысле паразитов, ты не понял. Искусство сейчас такое, что вас от него не отодрать…
Пружина самолюбия
На сотый спектакль "Старшей сестры" пришел Александр Моисеевич Володин с чемоданчиком – угощение принес артистам. Банкетик был в красном уголке. Во время застолья он вдруг спрашивает меня, правда ли, что из театра уходить собираюсь. Скрывать мне было нечего. Оттого и знали о моем настроении. Удивляло всех, что "тылы" не были подготовлены. Кто-то считал, что скрываю, чтобы Гогин гнев отвести. Времена были такие: в Питере все театры под шефом жили. Шутили так: "Осталось взять почту и телеграф". Но писатель, он и есть писатель. -- А в какой бы театр вы хотели? -- Хотел-то бы в "Современник"… Добрый, отзывчивый человек Володин! Именно от чистого сердца он предложил мне помощь! Де в "Современнике" у него друзья – Олежка Ефремов, да все! -- Это вполне реально. Поскольку конкурировать вам там, Ваня, не с кем… И дальше говорил драматург что-то вполне убедительное, что это неплохой будет выход из положения. Да только не заметил мой собеседник, что я убит его оценкой. Прострелило меня навылет, что не конкурент я им всем, знаменитым и талантливым! Что со мной творилось, боже мой! И уж багровым я стал наверняка, но ведь покраснеть можно и от радости, не только от стыда. Такие перспективы открываются! И кто протекцию предлагает?! Сам Володин! Возможно, так и было истолковано мое замешательство. Или отвлек Александра Моисеевича кто – не одни мы сидели-то… Обида ли меня обуяла, фанаберия ли взыграла, бог весть, но возникла во мне пружина. Ах вот как вы меня, гений, трактуете?! Значит, и не артист я вовсе, по-вашему? Ну-ну. Посмотрим… Долго сжималась и разжималась пружина самолюбия и гордыни. Работала многие годы – тайно от всех, и сам не всегда сознавал я, что не утихает во мне скрытая сила желания, необходимости во что бы то ни стало доказать, что ошибался тогда Александр Моисеевич, несправедлив был ко мне! Сам-то Володин об этих моих терзаниях ни сном, ни духом. Посмеялись в прошлом году, когда к Паше Луспекаеву на могилку ехали, и открыл я великую свою тайну. -- Да ты что? Господи, у меня и в мыслях не было – обидеть тебя! -- Да какая обида, дядя Саша! Счастье это для меня. Дай Бог так "обидеть" хоть одного ученика. Пружина эта, надеюсь, не заржавеет, не лопнет, не вывалится из моего механизма… Пока жив буду, конечно. Спасибо вам, Александр Моисеевич.
- Вань, как ты хорошо говоришь: «Дядя Саша», а то в метро один: «Дед, твою мать…»
Эпизоды театральной жизни
Эффектный выход
Про знаменитостей все известно. Пересказывают легенды из поколения в поколение, обрастают они все новыми подробностями, и версии возникают одна другой хлеще. Потому осторожнее с этим надо. Наврать-то можно с три короба. А кому это нужно, если не правда? Но эта история -- совсем другое дело. Я ее сам слышал, от самого Копеляна. Учился Ефим Захарович в студии при Большом Драматическом театре. И вот как-то вызывают его с занятий. -- Беги в костюмерную. Там тебя оденут. Артист N заболел. Роль несложная – вынесешь поднос с кофе главному герою, поставишь перед ним и уйдешь. -- А текст есть? -- Да не до текста уже. Бегом давай, скоро выход! Главного героя играл Николай Федорович Монахов – один из создателей БДТ – мужчина довольно суровый, в то время, считай, хозяин театра. -- Стою с подносом, -- продолжает Ефим Захарович, -- чашка кофе на нем дребезжит, а я ничего поделать не могу – страшно, на сцене сам Монахов. Я вообще на зрителя первый раз выхожу! Толкнули меня в спину – пора! Вышел, а Монахов сначала на меня взглянул, как кипятком ошпарил, а потом с удивлением за спину мне взглядом повел. Я невольно оглянулся и понял удивление главного героя: слуга с подносом в руках вошел в его апартаменты… через окно. Куда и как я поставил для барина утренний кофе, не помню – без сознания вылетел со сцены – еле поймали. Успокаивают меня, ничего, мол, страшного, бывает, первый блин комом… Только вот перед Николаем Федоровичем извиниться надо, обязательно… В антракте – гримерка у него отдельная – стучу: -- Кто там? – вопрошает грозный голос. Душа у меня в пятках, но отступать некуда. -- Извините, Николай Федорович… -- За что? -- Вошел к вам через окно. -- Да это полбеды, голубчик: вышел ты через камин!
Ошибка молодости
У Сергея Сергеевича Карновича-Валуа, помнится, была одна поговорка: "Жизнь артиста была бы прекрасна и изумительна, если бы не репетиции и спектакли". Вот только один пример в подтверждение. В расписание репетиции на завтра внесли срочное изменение. Для меня это оказалось неприятной неожиданностью: срывалась съемка на "Ленфильме". Непосредственную мою реакцию невольно услышал стоявший рядом Сергей Сергеевич. Удивился: -- Вероятно, Ваня, вы с самого начала поставили себя в театре неправильно? -- Как это? -- Видимо, вы допустили оплошность, согласившись, что репетиции для вас обязательны. Вы, небось, и на спектакли, где вы заняты, приходите?
Интересный разговор
А вот как отзывался о мэтре Ефим Захарович Копелян: "Не столько он "Карнович", сколько "Валуа". И не только, как пылкий поклонник нежного пола, но и мастер тонкой французской иронии". И мне пришлось в справедливости этого замечания убедиться на собственной шкуре. Как-то в воскресенье был устроен культпоход между утренним и вечерним спектаклями "Горе от ума" в кинотеатр "Аврора" на новый, модный тогда фильм "Развод по-итальянски". Возвращаемся с просмотра. Сергей Сергеевич Карнович-Валуа, заметив, что я возбужден (фильм меня – ошеломил!) спрашивает: -- Простите, Ваня, но у вас такой вид… Неужели вам понравилась эта пошлость? Вопрос был не то, что неожиданный. Он был… из другого мира. На него и отвечать-то не хотелось. И я только пожал плечами. Сергей Сергеевич не обиделся. Помолчал. Потом заявил: -- Это не наше искусство. У нас все целомудреннее. -- При чем здесь целомудрие?! Меня взвинтила какая-то архаика суждений Сергея Сергеевича. И я уже готов был обвинить его в том, что он отстал от жизни, что немудрено при его возрасте (ему тогда уже было хорошо за семьдесят), но сдержался и только пробурчал что-то о том, что, видимо, мы по-разному понимаем современное искусство. -- Современное искусство!! Ваня! О чем вы говорите?! Боже мой, не разочаровывайте меня. Вы так удачно выступаете на профсоюзных собраниях. Я слушаю вас и думаю: "Слава Богу, у нас есть будущее…" И вдруг! … Вы бы слышали эту аристократическую манеру разговаривать, когда тебя одной только интонацией размазывают по асфальту! Я растерян, раздавлен. -- Сергей Сергеевич! Может быть, я не так воспитан, как вы, но чтобы остаться равнодушным от игры Мастрояни!… Это гениально! -- Ваня, вы меня пугаете… -- Да не я вас пугаю, а правда! В этом фильме всё правда! И они этого не боятся, а вы привыкли бояться, вам страшно все новое и честное! Я не на шутку разошелся и готов был уже дерзко высказать Сергею Сергеевичу все, что я о нем думаю… Но тут нас встретил Слава Стржельчик, который фильма не смотрел. -- Ребята, ну как кино? Я, честно сказать, побоялся еще раз "опозориться" перед Карновичем, так сказать, публично, и дал возможность высказаться самому "старому маразматику" – иначе я его уже и не воспринимал. А Сергей Сергеевич сказал: -- Слава! Мы посмотрели гениальный фильм. Это феноменально! Я потерял дар речи. И это не прошло мимо учтивого внимания Карновича, который в этот момент был "скорее Валуа": -- Что с вами, Ваня? -- Ну, знаете… А что вы мне столько времени талдычили?! -- Иван Иванович, дорогой мой, если бы я с вами соглашался, у нас не получилось бы интересного разговора…
Розыгрыш
Здесь характер важен. От него манера изложения. Легко представить, как на полном серьёзе Владимир Никитич Труханов озадачил Петра Наумовича Фоменко. Теперь Петя, как любовно называют его артисты, один из лучших режиссеров в России. Он и тогда, много лет назад, в Комедии нашей питерской, очередным, не главным будучи, тоже ведь не бездарью был. Умный, честный, острый по форме мастер. Потому и не ужился – попёрли из театра "умники" из обкома… Так вот, репетирует Фоменко темпераментно, зажигательно! То и дело на сцену выскакивает, мизансцены артистам показывает, играет за них. В творческом экстазе человек. Какое ему дело, что время репетиции уже пятнадцать минут назад кончилось? Если соблюдать профсоюзные законы – никакого искусства не будет. А просто сказать: все, стоп, нам пора отдыхать, увольте, дураков нет -- Петя озвереет. И вряд ли будет работать с таким пунктуальным артистом дальше… Ситуация осложняется тем, что многим ребятам из Комедии на радио надо… Запись в 15.00, а "гения" не остановить. Уже четверть четвертого, на "халтуру" опаздывать не годится – могут другого взять… И сердобольный Труханов берется ребят спасти, привести режиссера в чувство. Подходит, за рукав аккуратненько – дерг: -- Петр Наумович… -- Минутку! – и продолжается вдохновенное творчество… Еще попытка: -- Петр Наумович… -- Сейчас, сейчас… -- результат тот же. Но и Володя Труханов не из тех, кто отступится от намеченного. Тем более, обещал. Ребята ждут. Наконец, внимание режиссера поймано: -- Да, Владимир Никитич, слушаю вас. -- Петр Наумович, как вы думаете, Товстоногов и Сухорукова не родственники? Петину реакцию описать невозможно. Сначала он, как всякий разумный человек, пытается переключить мозги на новую проблему, абсурдность вопроса еще не дошла до сознания. Погруженный без остатка в эпизод пьесы, он не может понять юмора. Артисты затаились – они эту трухановскую хохму знают, но Фоменко никак не может вникнуть в суть, он не чувствует подвоха: -- Постойте, Товстоногов и Сухорукова? Как родственники?.. – мыслительный процесс поглотил умницу режиссера. Кажется, решение для него так же важно, как замысел пьесы, которую он ставит. А Владимир Никитич, насладившись замешательством Петра Наумовича, невинно его добивает: -- А если не родственники, то, может, они просто однофамильцы? Что артисты – народ коварный, знает каждый режиссер, но чтобы до такой степени… Позорнее розыгрыша Пете еще не приходилось переживать…Он подскочил, побагровел, плюнул, взглянул на часы и, крикнув: "Репетиция окончена! Все свободны!" – кинулся бежать. И долго еще бегал, завидев артиста Труханова…
Нихт ферштейн!
Шутить надо уметь. И ляпнуться можно, конечно, тоже умеючи. Ситуация бывает подходящей или нет. Вписался – смешно. А нет – "попал пальцем в небо". Дело в чуткости, тонкости. Откуда было знать Рубену Сергеевичу Агамирзяну, какие немцы приехали, чтобы наладить культурный обмен. Их было двое. Один по виду – типичный ариец. По-русски ни бум-бум. Другой объяснялся с завлитом Виктором Новиковым частью по-русски, частью по-английски. С ФРГ творческого контакта еще не было. И предложение гостей обещало радужные перспективы: поездки за границу желанны для любого театра. Иностранный зритель уточняет общечеловеческие ценности спектакля. Если "там приняли", значит "можем". Часто театр обольщается, придерживаясь вроде бы и высоких критериев, не допуская никаких посторонних влияний. Ревностная блокада может привести к ограничению, когда "домашние радости" становятся истиной в последней инстанции. Материальная же выгода поездок очевидна – за неделю можно получить две годовые зарплаты: суточные в марках или долларах… Словом, отказываться от договора с Западом никто не собирался. Тем более, выбрали наш театр – это уже признание. И вот приводит германцев Виктор Абрамович к "народному артисту СССР, лауреату Государственной премии, художественному руководителю театра" Рубену Сергеевичу в кабинет. Наш «Обаятельный» в курсе, ждал, встает и с очаровательной улыбкой объявляет: -- Я по-немецки знаю только три фразы: "Хенде хох!", "Гитлер капут!" и "Ауфвидерзеен!". Рука, протянутая для дружеского пожатия, осталась висеть в воздухе. Ариец, который по-нашему ни бельмеса, заметно побледнел, повернулся и пошел вон. А как еще понимать, если гостеприимный хозяин говорит на родном твоем языке: "Руки вверх! До свидания!" И неизвестно отношение гостя к Гитлеру. Но это выяснять уже поздно. -- Витя, куда они? -- Рубен Сергеевич, что вы натворили? Они больше не придут! -- Ну и хрен с ними. Если юмора не понимают. Так и ушли. К Додину. А ведь могла и Комиссаржевка стать Театром Европы…
Живой эфир
Прямой эфир не такое уж новое изобретение, как думают некоторые. И раньше на телевидении были "живые" передачи. И без казусов здесь, конечно, не обходилось. Помню, снимали передачу из рубрики "Рассказы о художниках". В кадре за круглым столом трое актеров: Сережа Коковкин, Миша Матвеев и Глеб Андреевич Флоринский. Глеб Андреевич – сама доброжелательность – не торопясь, начинает. -- Уважаемые телезрители! Сегодня мы расскажем вам о замечательном русском живоиписеце… Возникает небольшая пауза. Флоринский, споткнувшись на этом "живоиписеце", продолжает дальше не столь добродушно: -- пейзажи-исте… И, наконец, в полном расстройстве, сам себя обругал: -- Куинджи! Остальных участников просто смело со стульев. Пришлось дать заставку. А между прочим, такие моменты – неплохая закалка для профессионального актера – передачу ведь нужно продолжать.
Проверочка
Оговорки на сцене обычно вызывают бурную радость у партнеров. Особенно в старых, заезженных спектаклях. Идет представление на автомате, рефлексы – на муравьином уровне. И тут – на тебе – свежинка! Есть мастера проверить коллег на бдительность: заменят слово в реплике и смотрят, какова будет реакция. Известны классические, легендарные примеры. На сцене – царица в окружении многочисленной свиты. Получает письмо из соседнего государства. Разворачивает свиток, а там – узоры, якобы текст -- зрителю не видно, а артистам и не нужно знать, что там дословно написано. Но артисты -- живые люди, и у них есть свои человеческие, не только сценические, отношения. Посмотрела царица на абстрактные каракули, да и протянула письмо партнеру: -- Читайте, граф. В пьесе этого текста, разумеется, нет. И застыл "высший свет" в предвкушении фиаско графа -- молодого дарования, игравшего графа. Зритель возникшую паузу воспринимает, как должное – этот театр в театре только для посвященных. И почти вся труппа – придворные – безжалостно ожидает позора любимца публики, вчерашнего Гамлета. Как ответит он на эту царскую «отсебятину»: -- Читайте, граф. И ведь нашелся: -- Я грамоте, царица, не обучен. Ахнул двор и переметнулся в симпатиях своих к молодому графу. И не мудрено: находчивость, остроумие у народа всегда в цене.
Вошел в роль
В кино проще, чем в театре: переснять можно. Но бывают казусы, которые объяснить никакая логика не в силах. Фильм "Грядущему веку" по роману Георгия Маркова о молодом секретаре обкома партии снимался на "Ленфильме". Режиссер-постановщик Искандер Хамраев подобрал неплохую команду актеров. Начинается действие с трагического известия о смерти первого секретаря одного из сибирских обкомов КПСС. Врач (Гриша Гай) прямо и коротко объявляет: -- Разрыв аорты. Я играю секретаря по сельскому хозяйству Мохова. Прямо передо мной второй секретарь – после шоковой паузы, не в силах, видимо, избавиться от потрясения, с трудом подбирая слова, изрекает: -- Товарищи… Члены бюро обкома… Я знаю по репетиции и даже повторяю про себя продолжение: "…здесь почти в полном составе… Необходимо принять срочное решение…" и так далее. Помолчав, "второй" выдавливает из себя невероятное: -- Члены бюро… почти здесь… Я не могу сдержаться, хохочу. Режиссер кричит: -- Стоп! Ваня! В чем дело?! А при чем тут я? Через полчаса второй дубль. -- Товарищи… Члены бюро обкома почти… в полном порядке… Теперь уже не один я виновен в срыве съемки. Нам приказано терпеть, что бы мы ни услышали: -- Потом подложим тот текст, который нужен. Типичная, между прочим, картинка: руководящий партийный деятель не может связать двух слов. Говорим одно – подразумеваем другое… Но это, конечно, не входило в задачи создателей картины.
Плоды популярности
Пришли как-то с женой на рынок. Выбрал я приличную картошку, прошу взвесить, а продавец на это: -- Тебе-то зачем? -- Как зачем? Есть. -- Да ты моргни только – тебе машину привезут. -- Кто? -- Кто-кто? Колхоз, из которого ты в город уехал! Кира Васильевна моя оживилась: доигрался на телике председателей колхозов! Может, и ее правда – мужик такой телеман оказался, а может я просто похож на их бывшего председателя. Подыгрываю: -- Ну, уехал. Так это когда было… -- А колхоз без тебя развалился… Зря ты ушел. -- Ну, теперь уж, - говорю, - ничего не поделаешь. Картошки-то взвесь. -- Тебе куда? Даю сумку. Он в нее ведро полное опрокинул и мне сует – без веса. -- Сколько? -- Чего? -- Стоит? -- Да ты что, очумел? Еще я деньги с тебя буду брать – на всю деревню позориться! Мне и крыть нечем. -- Пошли, мать. Вот она – популярность.
Привет от Леонида Каминского
Три мужика разных поколений -- актёрская династия
Размышления о театре
Я царь или не царь?
Евгений Львович Шифферс. Особняком, скалой в житейском море актерства моего стоит этот редкой силы и дарования человек. Красиво выражаюсь, да? Можно и нужно о таких людях поэмы, баллады слагать. Я так понимаю, что заприметил меня Женя в дипломном спектакле первого товстоноговского режиссерского выпуска. "Двенадцать разгневанных мужчин" – по американскому сценарию. Ставил Евгений Алексеевич Лебедев. Ролей – уйма. Одних присяжных заседателей – двенадцать. Студентов не хватало, дядя Женя и попросил меня помочь. А роль-то главная – в кино ее играл Генри Фонда. Один раз всего сыграли – на экзамене по актерскому мастерству… Евгений Алексеевич – когда я поздравлял его с восьмидесятилетием – сказал, что эта роль – лучшая за всю мою жизнь. Кто знает, мастеру виднее… Вскоре Шифферс предложил мне почитать "Антигону" Жана Ануя. -- Будешь играть Креона. -- Царя? Жень, ты что, какой из меня царь, да еще древнегреческий? Я – крестьянский парень. -- Мое дело – дать тебе роль. Твое – сыграть. Если ты актер! Этот знал, что сказать. Коротко и ясно – "если актер". Задел, и крепко. Стал я "сам себе думать". А что это вообще такое – царь? Глава государства. Фивы, конечно, не Советский Союз, поменьше были. А Креон там главный. Отец родной. Если представить, что страна небольшая, народ, как одна семья. И отец хороший, справедливый – по закону живет, не по прихоти, не самодур, но поблажек не жди, если что не так. Во, это уже понятно. Характер, вроде как у бабы Поли. Только мужик, само собой. И стал я стараться понять самочувствие отца, у которого детей целый Невский проспект. Кто попал навстречу, тот и сынок или доченька, независимо от расы, возраста – все мои. И всех я люблю одинаково, забочусь о каждом, а что в лицо признаю – чего же тут странного – на то я и царь ваш – батюшка. Иду так, улыбаюсь сдержанно, снисходительно, и любуюсь чадами своими, внимательно в глаза смотрю – хорошо ли живется вам в моем царстве-государстве? Не без удовольствия стал замечать, что уважает меня народ. Пожилые люди отвечать даже стали на мои полупоклоны. Не все, конечно, но некоторые долго еще оглядывались – кто такой, не знаем вроде… Да выяснять такие мелочи – царское ли дело? Иду степенно, осанка подобающая. Девушки глаза отводят, иногда краснеют. Ах вы, голубушки мои, знали бы, кто на вас глаз положил, не так бы засуетились. Не знают. Где им догадаться, что сам царь идет? На лбу у меня не написано… Репетиции между тем идут. Тексты исполнители знают наизусть. Шифферс доволен. А я – нет: не Креон я, не царь. Повальяжнее стал, суета лишняя ушла, но, знаю, - не то. В чем дело? Ясно, что в конфликте. Без него ничего нет. Ни драмы, ни трагедии. Театра нет. Антигона – племянница Креона. Ее отец – Эдип по-дурацки себя вел: убил отца, переспал с матерью… И детей таких же оставил, уродов. Сынки Этеокл и Полиник после смерти батюшки передрались за престол, убили друг друга, их конница растоптала так, что трупы не различить. Но люди как рассуждают? Один прав, другой – нет. Один – герой. Другой – негодяй, враг. Так Креон и поступает: один труп торжественно, со всеми почестями хоронит, а другой оставляет валяться непогребенным на съедение шакалам. Жестоко? Да. Но порядок в стране важнее. У этого гниющего на солнце якобы Полиника выставлен караул. Указом Креона каждый, осмелившийся похоронить труп, обречен на неминуемую смерть, кем бы он ни был. Стража неподкупна. Да и кому охота в петлю лезть? Нашелся человечек. Для Антигоны этот несчастный – брат. И похоронить его, придать земле – ее человеческий долг. Взяла девочка лопатку и пошла. Стража ее, естественно, схватила и – во дворец. Ну и что, что племянница царя? Даже интересно, как дядюшка разберется: по-семейному или по закону. Вот и проверим праведника на вшивость – указы-то все горазды подписывать, а ты добейся их исполнения, тогда, может, и будет в стране порядок… Сначала-то Креон решил, что дело яйца выеденного не стоит. Молчи, Антигона, стражников я уберу, пока не разболтали… Ан нет. Девочка-то с норовом. -- Почему это я должна молчать? Я хочу исполнить свой долг… -- Но тебя же казнят, дура! -- Пусть казнят. Мне вообще надоело жить по-вашему. Вся эта ваша двуличная политика мне противна, так что прикажи, Креон, меня казнить. Как это, родную племянницу, любимицу, беззащитного воробышка, невесту сына моего Гемона – казнить? Жалко ребенка. По-настоящему. Вот дилеммочка-то. Об этом – сцена ключевая в пьесе – на сорок минут. По совести – одно. По закону – во имя порядка – нечто противоположное… С холодным носом здесь не сыграешь. Этот философский диспут – такая схватка: не на жизнь – на смерть! А откуда азарт взять? Добренький Креон, отец всеобщий, пожалеть, простить по логике должен племяшку, покаяться и уступить власть другому, кто покрепче будет… Власть уступить? Стоп. Что-то нет в истории примеров, чтобы добровольно трон отдавали. Царь Федор Иоанович? Так он блаженный был. Нет, кто вкусил этой сладостной отравы, тому не до жалости. Горло готовы перегрызть друг другу – ни стыда, ни совести. Теперь все как на ладони – по телевизору видно. Что народ-то подумает, на грызню эту глядючи? Да плевать им с колокольни Ивана Великого на народ. Сказал же Пушкин: народ безмолвствует. Быдло. Значит, и Креон такой же? А как же! Как всякий правитель, властолюбив и деспотичен. К любой крамоле относится однозначно – уничтожить! Вот оно! То, чего у меня нет! Властности, беспощадности. Потому что я в царе только отца родного увидел. А разве все меня любят? Все ли лояльны в семействе моем? Бунтарь обязательно должен быть. Найти и обезвредить! Пришлось продолжить царские этюды – опыты на живых людях, ни в чем не виноватых современниках моих. Они и не подозревали, что я им на этот раз приготовил. На Невском бунтаря трудно найти. А вот в метро – самое место. Сел, напротив шестеро. И давай одного за другим прощупывать – посмотрим, что за фрукт, как ты ко мне настроен: дружить будем или воевать насмерть? Кто глаза отвел – не опасен, не боец супротив царя. Следующий! Бабульки всякие, девицы, мужики сонные – с работы едут, пьяные – не в счет. Мне идейный противник нужен, сознательный, чтобы, как Курбский, не побоялся самого Ивана Грозного! Ищи, как говорится, -- обрящешь. Встретил я в конце концов того, кто потребен мне был. Счастливый случай! Экземпляр, надо сказать, отменный – по всем статьям. Видимо, спортсмен, молод, самоуверен да еще и красив – вот, кому царем быть, а не мне – замухрышке. Но я разве об этом думал? Нет, у меня дух захватило от радости, от предчувствия! Он только встретился с моим взглядом, вскользь, а сразу и вопрос, безмолвный, но вполне определенный: -- Чего надо? А я на верху блаженства: знал бы ты, касатик мой, чего мне от тебя надо! Покорности твоей, богатырь ты самонадеянный, мне надо! Ну-ну, не морщи лоб, не знаешь ты меня. Но узнаешь. Никуда от меня не денешься. Вонзился я в него, впился глазом своим царским. -- Что, не нравится? Да нет, милый, никакая это не игра в гляделки. Битва это! И не пугай, не пучь глаза, не боюсь я тебя, холоп! Царь я, а не ты! Видать, хоть и улыбаюсь, но не по себе ему от ухмылки моей – пятнами пошел, заерзал. -- Что, остановку свою проехал? Не страшно. Моя уже давно была. Не могу же я отступить – иначе, какой же из меня Креон? Но и он не лыком шит. Едем. Никогда прежде ничего подобного не испытывал: мощь, оказывается какая во взгляде! Поток энергии, прямо, как лазер! Пассажиры видят, что сцепились двое – что-то их связывает, потому что один явно рад, с превосходством поглядывает: -- Ну что, попался? А другой вроде виноват в чем – сам ничего не понимает – пристал идиот какой-то! Но молчат оба и не дерутся. Обстановка накаляется. "Поезд прибыл на конечную станцию. Просьба освободить вагоны". Все выходят, а мы сидим. Не выдержал мой бунтарь: -- Может, выйдем! -- Разумно. Встает спортсмен, мне аж голову задрать пришлось – до того здоровый. Начинает он двигаться как-то боком. Инвалид, что ли? Нет, это он выходит, задом пятясь, чтобы глаза мои не потерять. И дистанцию держит метра в три-четыре. Э, парень, да ты испугался… -- Погоди, -- говорю, -- сынок, не бойся… Его передернуло всего: -- Что?! Я тебя боюсь?! Ты кто такой?! А сам пятится. -- Остановись, я все объясню… -- Не надо мне твоих объяснений! Тебе чего надо, сволочь? Привязался… Я тебя размажу – три дня с колонн этих соскабливать будут… Ну, совсем не в себе человек…Начинаю его успокаивать: -- Видишь ли, дело в том, что я – царь… Тут с ним что-то невообразимое твориться стало… -- Ой, прости, неверно выразился. Я артист, репетирую роль царя… Извини, ради бога. А он уже невменяемый: -- Псих, твою мать, я сразу понял! И бежать! И все оглядывается, не преследую ли я его… А что, собственно, произошло? Я победил человека, который сильнее меня. Коварно одолел. Хитрость момента в том, что моя цель для соперника была тайной. А неизвестность пугает. Он струсил. Я его унизил. Он возмутился и стал еще более уязвимым и, в конце концов, сдался. Что и требовалось: Креон добился своего. Мой молчаливый конфликт со «спортсменом» потребовал максимального напряжения воли. И это была не умозрительная история, это произошло по-настоящему, в реальной жизни, и стало навсегда моим. Потом мне легко было играть королей в сказках на телевидении, генерала Серпилина и самого Иоанна Васильевича Грозного. Нюансы характеров не исключали главного – властности, прочного внутреннего стержня, то есть воли. И в жизни я стал другим. Но это совсем не значит, что совершилось чудо. Зерна изменения моего собственного характера лежали до поры до времени в амбаре моей натуры. Пришло время, возникла потребность, семена получили питание, и пошли в рост. История с Креоном поучительна. Во-первых, классика, в смысле "зерна роли". Во-вторых, я роль оседлал, и она меня тоже.
Роль Креона -- постижение трагедии власти
Прежде я стеснительным был. Заглянуть кому-нибудь в глаза без нужды не решался. Дидро в "Парадоксе об актере" делает вывод, что артист собственного характера не имеет – на сцене перевоплощается в персонажа, заданного автором. С одной стороны, может быть и так. А с другой стороны, – роль, капитально освоенная, для артиста бесследно не проходит. Неважно, долго он ее играет или нет. Если постиг, в душу твою вошла, жди сюрпризов от собственной натуры, которую, как тебе кажется, досконально знаешь. Потому артист – человек особенный. Характер его обретает все новые грани и может стать всеобъемлющим. Опытный мастер из своей душевной кладовой достает то, что ему необходимо для новой роли. Вот такое мое мнение, мсье Дени.
Творческая жизнь
И ещё я должен сказать, что за свою долгую жизнь я понял, что творческий человек непременно должен иногда всё начинать сначала. Бросать к чёртовой матери привычное, каким бы оно ни было. Особенно опасно, когда это привычное ещё и очень благополучное, если оно упитанное, мебелью заставленное, если оно зажиточное во всех смыслах. Это гибель! Артист должен быть свободным от вещей. Бывает, что нужно поменять театр. Меня, слава богу, сия участь миновала, потому что с перестройкой возникло много маленьких театров, в которых можно работать на условиях антрепризы. Я с удовольствием, например, играю спектакль «Заноза» по пьесе Франсуазы Саган в «Приюте комедианта». Всё в твоей власти. Делай, пожалуйста, сам работу и предлагай. Тебя возьмут. Антрепризность теперь считается одним из основных, нормальных и живых направлений в деятельности театров. Благодаря морской выучке, я никогда не завышал своего ценза. У меня никогда не было претензий к театру, что меня, якобы, недооценивают, не дают мне роли и тому подобное. Даже при всех моих конфликтах с Агамирзяном, я всегда был удовлетворён тем, что играю то, что могу. В этом честность Агамирзяна, во-первых, а во-вторых, зачем же ему портить репертуар, если артист может сыграть хорошую роль. Вот и всё. Когда я слышу от некоторых артистов, что они не востребованы в своём театре, то здесь не более чем привычка к тому, что когда-то у них всё было хорошо. но времена-то меняются, может быть, они потеряли прежние кондиции. Изменения вполне понятны: возраст, болезни, паузы в работе. Ведь репертуар специально под артиста не строится. Так сам строй для себя репертуар. Я говорю не голословно. У меня есть программа -- «Загадка Сократа» по философу Платону, это мой задел на будущее. Ранее я серьёзно занимался Гамлетом. В день моего рождения, один из гостей, кажется, это был Юрка Филин, пошутил: -- Иван, а знаешь у артистов есть поверье: если в сорок лет Гамлета не сыграл -- не артист? Я нашёл удобный момент, вышел из-за стола, взял том Шекспира и открыл «Гамлета». И вдруг покраснел. Я не знаю этой пьесы. Только и могу произнести: «Быть или не быть -- вот в чём вопрос!». А дальше? Позор! Два года бился я над этой трагедией и самой загадочной из ролей. Неважно, сколько Гамлету лет. Играли его и старше сорока, хотя могло быть ему и восемнадцать. Всё дело в мировоззрении. Подступит «Быть или не быть», тогда поймёшь. Сам! И сыграть Гамлета нельзя, им можно только стать, а уж это как Бог даст… Гамлет, в отличие от всех прочих персонажей трагедии не действует явно, не обнаруживает своих намерений. Он думает. А думать актёр может только так, как дано ему природой. Интеллект -- мощное выразительное средство. Гамлет -- не образ, это всегда сам артист, который стал Гамлетом со всеми своими потрохами! И стоит он особняком в мировом репертуаре. Только гений Шекспира смог сотворить такое… Это я записал в блокноте и дал почитать своему другу Борису Аханову .Боря сказал: -- Ну, ёлки-палки, ты даёшь, философ. Но вообще интересно, очень даже. А через неделю поляки привезли «Гамлета». Играл его Даниэль Ольбрыхский. В газете «Смена» я вдруг читаю слова Даниэля: «Гамлет это непременно тот человек, который его играет. Это я сам». Боря Аханов изумился: -- Если бы я не прочитал у тебя раньше то же самое, я бы подумал, что ты «сдул» у него. -- Да нет, Боря, просто до этого надо самому дойти. Пытались мы играть «Гамлета», собрав артистов из разных театров, но не получилось. Самодеятельно «Гамлета», конечно, не поставишь Но я считаю, что Гамлета сыграл, потому что я его понял. Если ты освоил психологию роли, тебе не обязательно учить монологи: «Что я Гекубе, что мне Гекуба…». Мне всё ясно. Я уже перестрадал, перемучился Гамлетом. Он мой.
Бесконечные новые начала
Постоянная творческая работа удерживает меня в театре и не даёт мне даже возможности пожаловаться. У меня ещё столько неразрешённого для самого себя. Например, я беру Маркеса «Сто лет одиночества», обращаюсь к режиссёру Виктору Явичу: -- Витя, я ошалел от этого романа. Давай с тобой что-нибудь из него сделаем. И мы работаем над композицией, которую я выучиваю, но оказывается, что это нужно только нам с Витей. Гениальный Маркес не вызывает интереса у современной публики. Ах как это длинно, целых два часа. Но я жил этим, Маркес остался со мной. Огромный, колоссальный след во мне оставил Креон, царь древнегреческий, роль которого я осваивал с трудом, но осилил. Все сыгранные роли влияют на артиста, обогащают его. Надо не бояться начинать всё сначала. Поэтому когда меня спрашивают: -- Ты что, с ума сошёл, женился на такой молодой женщине? -- Нет, -- отвечаю, -- и в этом надо начинать всё сначала, если есть к тому причины и основания. Я считаю, что у меня они есть. Я заново родился в очередной раз. Чувствую себя помолодевшим. Наталия Николаевна мне помогает, она меня поддерживает, она становится моим секретарём: -- Зачем вам заниматься этой писаниной, это могу сделать и я.
Наталия Николаевна. Непостижимы зигзаги судьбы!
И у меня ещё одна гора с плеч. Это же прекрасно. Тем более взаимность есть, чего я много лет не имел. Взаимность -- это самое главное. А тут ещё и Ванечка маленький родился! Надо смело начинать всё сначала, если знаешь, на что идёшь.
Камертон
Евгений Николаевич Моряков, токарь высшей квалификации, Герой труда, но очень скромный человек, научил меня простым вещам. У артистов есть предрассудок -- они крестятся от страху перед выходом на сцену. И особенно боятся играть премьерные спектакли. Вот просто страх какой-то, и всё. Меня постоянно терзал вопрос, почему так? Я спросил Женю (мы уже подружились): -- Вот тебе дают новый чертёж сложнейшей детали. Ты должен её изготовить из болванки. У тебя возникает какой-нибудь страх перед этой работой?
-- Да ты что? Передо мной чертёж и технология изготовления расписана инженерами. Изучив их, я сразу вижу: это я знаю, это я умею. А чего не знаю, подойду и спрошу у мастера или инженера. Если ты знаешь своё дело, чего бояться-то? И я стал меньше бояться. Меня теперь не трясёт перед премьерой. Больше того, я предугадываю, как зал примет новый спектакль. Зритель -- главный партнёр. Поэтому надо его чувствовать. На творческих встречах, когда выхожу на сцену, прошу не сразу гасить свет, чтобы успеть рассмотреть публику. После этого я уже знаю, какой будет реакция зала на первые же мои фразы. Эти встречи -- всегда импровизация. Причём, предварительный план кардинально может поменяться. Вот на завтра меня пригласили в Сестрорецкий Курорт. Я обдумываю творческую встречу с отдыхающими. Наталья Николаевна хотела поехать со мной, но у неё спектакль. Спрашиваю её: -- Как ты думаешь, с чего мне начать выступление? Про Сократа рассказать или почитать «Демона», а потом уже вести беседу. Ведь в основном там пожилая публика. А она мне говорит: -- Что вы меня спрашиваете? Вы приходите в зал, осматриваетесь, и я вижу, что вы уже настроились. Завтра вы увидите зрителей и на месте всё решите. Это правильно. Наша загадочная творческая деятельность по сути своей такое же простое ремесло, как и работа токаря. И тот же Женя Моряков научил меня не обольщаться комплиментами. Посмотрел он один спектакль, другой, третий, а были это шедевры: «Продавец дождя», «Люди и мыши», «Принц и нищий»! И только и сказал: «Нормально». И, видимо, заметив моё разочарование подобной оценкой, пояснил: «Норма -- это гармония. ГАРМОНИЯ! Есть ли что-нибудь выше?». И стало мне понятно, почему Сократ на вопрос, что бы он пожелал молодёжи, ответил: «Ничего сверх меры.»…
Командирский навык пригодился
Однажды на гастролях в Тюмени странным образом подтвердилось моё умение управлять кораблём. Местный нефтяной руководитель дал артистам свой катер, чтобы мы, кто не занят в вечернем спектакле, пошли по реке Туре подальше от города на настоящий природный пляж. Идём мы по Туре, и вдруг толчок. Что такое? На реке тишь да благодать. Двигатели стучат нормально. Выхожу на мостик. Капитан, он же рулевой. Спрашиваю: -- Что случилось? -- Да мель, будь она неладна, мать-перемать. Надо ждать, когда кто-нибудь проходить будет. Чалку бросим, нас и сдёрнут. -- Как это ждать? Ты что с ума сошёл, капитан? -- Да ты видишь, как вбякались. -- Ладно, не горюй. Ну-ка давай полный вперёд, а руль право на борт. -- Чаво? Пришлось повторить команду. Уборщица, почувствовав во мне надёжность и уверенность, замахнулась на капитана шваброй: -- Делай, как тебе говорят! Он врубает полный ход, перекладывает руль вправо. Командую дальше: -- Лево на борт! Рулевой уже послушно исполняет. Так повторили несколько раз. -- А теперь стоп! И полный назад! Лёгкий рывок, и мы сошли с мели. Обьяснение простое: я элементарно расширил борозду в песке, освободил форштевень и корабль свободно вышел из песка на заднем ходу. Гром аплодисментов -- на борту же артисты. Так бывший моряк запросто ликвидировал «опасное» ЧП!
Мои однокашники
Ода подготам и первобалтам
Однокашники -- смешное и трогательное слово. Это для нашего поколения -- почти святое определение. Сотни мальчишек в суровом послевоенном году оказались вместе. Разные характеры и судьбы, только-только складывающиеся мировоззрения. Нам по 14 -16 лет, впереди у нас блистательная перспектива: из каждого государство сделает морского офицера. Для одних это мечта, вполне осознанная и окрепшая на биографии отца и деда. Для многих -- романтика, юношеские грёзы по Александру Грину с бригантинами и алыми парусами или в лучшем случае -- по Леониду Соболеву. Кое-кого в стены Подготии привела нужда: учиться на полном государственном обеспечении -- что может быть лучше? А учиться мы все хотели. Принимали нас по конкурсу. Совместное казарменное житьё, режим с чётким расписанием от подъёма до отбоя, не сразу всем пришёлся по душе… Постепенно втягивались в ритм хорошо продуманного и отменно организованного формирования морских специалистов. Море без крепкой физики невозможно. Поэтому спорту уделялось большое внимание. Утренняя физзарядка, от которой хотелось увильнуть, но редко получалось, -- и та закаляла пацанов, незаметно укрепляла мышцы. Мы тянулись вверх, и в первое же увольнение удивляли родителей заметными переменами к лучшему. Шлюпочные походы по всей Неве до Ладоги и обратно на вёслах! Это могут оценить только те, кто до сих пор имеет мозоли на ладонях. «Надежда» и «Учёба» -- не прогулочные катера. Мы ходили на них под парусами, поставить которые можно было только мощными усилиями всех вместе. Морской закон: «Один за всех и все за одного!» постигался нами на деле, входил в нашу плоть и кровь, определяя в будущем наши поступки… Не наша вина, что офицерская служба по диплому сложилась не у всех. Кто-то вынужден был поменять профессию, оставить флот. Мы жили вместе со страной, были достойными её гражданами при любых потрясениях и катаклизмах -- так нас воспитали наши командиры. Именно это прежде всего бросается в глаза на традиционных встречах: мои однокашники -- красивые люди! Жизнь не смогла сломить их никакими штормами и невзгодами. Хоть здоровье уже подводит нас, дух наш крепок и нерушим. Каждые пять лет оргкомитет -- честь ему и слава -- собирает нас в стенах «Чудильника», и нам не стыдно друг перед другом. У кого повернётся язык сказать, что годы Подготии и Первобалта -- потерянное время? Я таких не знаю.
Организационный комитет подготов и первобалтов «46-49-53»
Многие мои роли зародились в ту пору. И когда я читаю у Станиславского о значении воли в работе актёра, мне не надо лишних объяснений, для меня это аксиома. И заложено это свойство в мою натуру с подготских лет. Моряки -- народ крепкий во всём. Кричать о своих делах -- всё равно что утверждать: главное на корабле -- гудок. И пример нам, скажем, -- Витя Конецкий, прямой и честный мужик, отслуживший Отечеству от звонка до звонка.
С Виктором Конецким на одной из встреч в родном училище .В 2001 году я вместе с ним был принят в Союз Георгиевских кавалеров
Выступаю в книжной лавке писателей в день полугодия со дня смерти Виктора Конецкого и занесения его имени в Золотую Книгу Санкт-Петербурга
Или погибший трагически Джемс Чулков, морской командир от Бога… Все наши адмиралы, я полагаю, не по блату получили высшие звания, а некоторые, как Женя Чернов, ещё и звезду Героя.
Эту фотографию Джемс Чулков подарил мне с такой надписью: «Ваня дорогой! С величайшим чувством уважения в память о наших счастливых днях в Подготии! Счастья тебе и всем нашим! Джемс 15.10.77 г.»
Апрель 2002 года. С однокашником вице-адмиралом Евгением Черновым на юбилее родного училища
Я горжусь вами, ребята, ушедшими и живыми, и низко кланяюсь всем, имеющим отношение к славному племени подготов и первобалтов!
Талант и бесшабашность
Много талантов было у Леши Кирносова! Моряк, писатель, мужик – на загляденье женщинам, на зависть мужчинам! В курсантские годы, хоть учились мы вместе, не дружили. Сблизились позже. Он написал повесть "Перед вахтой", я по радио зачитал фрагмент. Дифирамбов со стороны автора в адрес чтеца не последовало. Тем не менее, скоро я был приглашён вместе с Кирой Васильевной моей к нему домой на день его рождения. Было это восьмого марта. Подарил, помню, Леше блок "БТ" – по тем временам презент редкий, оттого – шикарный. С тех пор частенько у него бывал. Жил Кирносов недалеко от метро "Автово" на улице Строителей с мамой и дочерью. Мама Варвара любила Лешеньку – это ведь сразу видно. И к гостям его была приветлива: встретит ласково, вглядываясь через толщу диоптрий в круглых очках, а потом не слышно ее целый вечер, только проводить выйдет. Отношения же отца с дочерью Наташей казались мне странными, но это дело семейное. А жены у Алексея Алексеевича в то время, как мы с ним вторично познакомились, не было.
Снимок с последней свадьбы любвеобильного Алексея Кирносова. Устал Лёша… В эти дни он сочинил эпитафию, которую просил меня поместить на своей могиле: «Водку пил, с блядей не слазил, Так и жизнь проебоглазил…»
Лёша был непростой парень. После обычного застолья он пошёл нас провожать босиком, когда на улице был лёд и шёл холодный дождь. Я спросил: -- А это что? -- Я йогой увлекаюсь, и вот так хожу. На это я сказал: -- Лёша, если ты пойдёшь провожать нас даже с голой жопой, Льва Толстого из тебя не выйдет. Мы так хохотали! Как известно, Лев Толстой любил ходить в своей толстовке и босиком, но только летом. Рано ушёл из жизни Лёша. Жаль. Талантлив был, но бесшабашен…
Сквозь годы и расстояния
К собратьям-однокашникам у меня особое отношение. Они все очень хорошие, порядочные люди, и я дорожу их дружбой. А в целом это был и есть дружный, сплочённый коллектив. До сих пор сохраняется наша дружба. Нам приятно друг с другом встречаться в любой обстановке. Связь поддерживаем постоянно, соблюдая полное равенство всех, независимо от достижений и рангов.
1978 год. Это одна из юбилейных встреч. С нами командир роты Афанасий Петрович Моргунов
Только одно меня немножко стесняет: поскольку я единственный артист из нашего выпуска, то меня ставят выше других. Поэтому ещё раз говорю: -- Господа, заявляю официально, что это несправедливо!
22 сентября 1996 года. Первая встреча всех подготов. Выпускники ЛВМПУ 1949 года. Здесь я всегда свой среди своих
Сентябрь 2000 года. Продолжение празднования юбилея под Андреевским флагом на даче с кинорежиссёром Вадимом Бурцевым
Однажды на одной из встреч я уже выступал с этим тезисом, произнеся: -- Вот Джемс Чулков -- настоящий герой среди нас. Он адмирал, Командующий эскадрой Тихоокеанского флота. А я-то кто? Не отслужив и года в офицерском звании, я ушёл в бархат и пыль кулис.
25 января 2001 года. Дружеская встреча за кулисами Концертного зала «Октябрьский» после торжеств и праздничного концерта, посвящённых 300-летию военно-морского образования в России, которые доверили вести мне
Ну а то, что меня так ценят, может быть, дань тому нашему юношескому содружеству и тому, что я на виду.
Ваня Худяков -- замечательный человек! Тоже подгот, ставший уникальным специалистом в медицинской науке С ним мы -- большие друзья
Санкт-Петербург, 18 июня 2002 года. Гордость наша -- Кот Макаров, Адмирал Флота!
Ну а я дослужился только до капитана 1 ранга, да и то в кино. Но форма морского офицера мне идёт, и роли моряков у меня получаются
Видимо, за это 5 марта 1998 года командир ЛенВМБ вице-адмирал Корнилов А.И. вручил мне в базовом матросском клубе правительственную награду -- медаль «300 лет Российского флота»
Санкт-Петербург, 2003 год |