



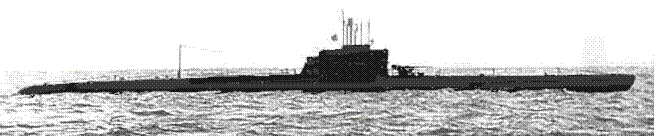
© Клубков Ю. М. 1997 год
|
|
  |
 |
|
|
© Клубков Ю. М. 1997 год |
|||
|
Первая часть воспоминаний Кости Селигерского завершается периодом окончания 1-го Балтийского высшего военно-морского училища. Поэтому здесь помещён его портрет курсанта выпускного курса – старшины 2 статьи. Он родился в глухой деревне и прожил в деревне до 14 лет. Однако он быстро освоился в городской среде, преодолев застенчивость. Скоро стал правильно говорить, приобщаться к культуре и пробиваться к самостоятельной жизни. Костя был образцовым курсантом: учился хорошо, добросовестно выполнял свои обязанности, дисциплину не нарушал, водку не пил, в самоволки не ходил, на гауптвахте не сидел. В то же время он был, как все, ничем не выделялся, если не считать заметной скромности. Благодаря внутренней самодисциплине, военная дисциплина его не угнетала. Его уважали и товарищи, и начальники, поскольку во взаимоотношениях он проявлял исключительную порядочность. Костя жил глубокой внутренней жизнью, был склонен к усовершенствованию своей личности, занимался самовоспитанием. Он был самодостаточен и независим. Он увлекался музыкалным искусством, изучал музыкальную культуру, часто посещал театры и прекрасно разбирался в музыке. Об этом Костя рассказывает в первой части воспоминаний. Константин Селигерский
И БЫЛО ВРЕМЯ, И БЫЛА СЛУЖБА …
Заметки старого подводника in h-moll
Единственному внуку моемуИлье в пример и назидание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Появлению этих заметок всецело обязан Редакционному Совету, который призвал нас написать о наиболее интересных фактах и событиях из своей службы и жизни. Сначала я решил, что ничего писать не буду, поскольку ничего выдающегося не совершил, особо курьёзных случаев в службе не было, а то, что интересно мне, полагал, не интересно больше никому. Поскольку призывы со стороны представителей Редсовета не прекращались, а становились всё более настойчивыми, а к ним ещё присоединились увещевания моей жены и дочери, я подумал, что кое-что кратко можно было бы написать. Никакой «писательской» деятельностью я никогда не занимался. Когда осенью 1999 года я всё же начал и уже написал половину ученической тетрадки, случилось так, что чемоданчик, в котором находилась тетрадь и некоторые личные документы, был похищен, а потому я решил на это дело плюнуть, так как начинать всё заново не хватало духу. Однако, примерно через месяц документы и тетрадочку подбросили, спасибо, прямо под дверь квартиры, а обнаружила их дочь Наташа. Ознакомившись с моими набросками, она начала ежедневно меня уговаривать не бросать, а продолжать писать и обязательно закончить, так как начало ей очень понравилось. Дочери вторила и жена, и я подумал, может быть, родным что-то будет интересно узнать, а внуку к тому же и полезно. Продолжил, а остановиться уже не мог. И вот, взывая к памяти (и только к памяти – никаких дневников никогда не вёл), вспоминая подробности и некоторые детали службы и жизни, я как бы вновь пережил свою жизнь. Прикинул, что если эти мои записки окажутся для Редсовета запоздалыми (ведь просили сделать это ещё пять лет назад!) или вовсе ненужными, то для родных и близких могут оказаться не лишёнными интереса, а для этого я должен был вспоминать, вспоминать и вспоминать всё подробно, иначе задумка не имела бы смысла. Поскольку никаких пожизненных записей и документов не сохранилось, кроме двух-трёх записных книжек, в которых отражена большей частью моя музыкальная жизнь, а служебная часть туда не попала из-за соображений секретности, я не могу поручиться, что всё написанное достоверно на все 100%. Кое-что крепко забылось, кое-что в памяти переплелось, что-то стёрлось, а иногда и перепуталось по времени. Кропотливо сопоставляя одни события с другими, пытался воспроизвести их наиболее правдиво, достоверно. Характеристики отдельных, сопутствовавших мне в жизни и службе, лиц, особенно начальников, также нельзя принимать за абсолютную истину, так как я воспроизвёл именно только то, что запомнилось мне и было связано с моей личностью и службой. Кое-что сознательно опустил, а именно то, что могло выставить меня в неприглядном свете. Кое в чём, наверняка, прихвастнул, так как оценивал события и себя с точки зрения семидесятилетнего человека. В самом деле, можно ли абсолютно всё воспроизвести правильно, правдиво, достоверно через двадцать пять – пятьдесят лет после происшедшего события, не имея документов? Не хотел хвалиться, хотя от этого не ушёл, а ругать себя и недостатки свои выставлять не захотел. О них, наверное, лучше знают другие – они и напишут. Сам процесс написания меня заинтриговал и заинтересовал, – я вновь и вновь переживал уже однажды пережитое. Так родились эти записки, незаметно превратившиеся в объёмистый труд.
Селигер мой, Селигер, край родной, родимый
Хутор Черноречье
Было это ранним утром в чистый понедельник, 2 июня 1930 года, когда матушка моя, работая на огороде, почувствовала вдруг, что я брыкнул ножкой и попросился выйти. Тотчас же на хуторе Черноречье (тогда Ленинградской, ныне Новгородской области) Демянского района была запряжена лошадь, и маму повезли в телеге по лесной самодельной дороге в село Полново, что в трёх километрах от хутора, в больницу. – Сейчас буду рожать, – сказала врачу матушка. – Ну что вы, этого и близко не видно, – заявил доктор. Тем не менее, уже через несколько минут, в начале девятого, появился я на белый свет. – Выскочил, как из пушки, – говаривала мне мама. Родился я тринадцатым по счёту (из живых – девятым) ребёнком, в бедной крестьянской семье. Отец мой, Павел Михайлович, 1885 года рождения, долго скитался по свету в пределах Новгородской губернии, перепробовал ряд «должностей» и профессий, среди которых были и такие, как, например, земский писарь, потому что был грамотным, то есть имел какое-то образование. Но счастья не нашёл, и под конец своей короткой жизни остановился на земледелии. Получил хуторской надел в виде участка леса, из которого трудами неимоверными с помощью старших детей сотворены были и сад, и огород. Бревенчатый домишко, по тем временам приличный, был построен. Жилище нашей семьи выглядело так: кухня, она же столовая, с большущей русской печью; комната с печкой-лежанкой (до сих пор не пойму, почему называлась она лежанкой, ведь на ней можно было только сидеть, спустив ноги, но никак не лежать); сени, к которым примыкал двор – глухое закрытое со всех сторон соломой и жердями помещение наподобие большого шатра, где размещался скот и куры. Помнится мне ещё прекрасное высокое крыльцо со ступеньками да отличный подвал на два отделения. Более глубокое, под кухней, – там хранилась картошка, овощи и была дверь в так называемый ледник – подземный погреб со льдом, и второе, не очень высокое, так называемый «подпол» под комнатой. Зимой там было холодно, а летом – сухо и прохладно, довольно светло, так как были окошечки и полудверь – вход с улицы. Мы, дети, могли ходить там, не пригибаясь. Возле дома росла огромная рябина, под которой летом ставили большой обеденный стол. Там же мы пили дешёвый фруктовый чай из самовара. Царскую власть отец не любил, да и советскую не очень жаловал. Бывали у него небольшие конфликты как с той, так и с другой, но всё обходилось. От беспросветной нищеты и жизненных тягот у мужика одно лекарство – водка. Стал попивать изрядно папаша, и однажды в нетрезвом виде зимой на лесной дороге вывалился из саней. Лошадь вернулась ночью домой без ездока. Ночь пролежал отец на снегу, покуда нашли его старшие дети. Воспаление лёгких, а затем туберкулёз свалили здорового мужика. Лечение было только народными средствами, и 6 мая 1933 года на 48-м году жизни отец умер, оставив матери девять едоков, старшему из которых шёл 23-й год. Матушка моя, Анна Павловна, в девичестве Струнова, 1888 года рождения, была дочерью учителя церковно-приходской школы, росла в многодетной женской семье: шестеро сестёр и только один брат, самый младший. Волею судьбы погиб он в начале Великой Отечественной войны. Мама окончила три класса, училась у своего отца – очень строгого учителя.
Сосница на Селигере. Здесь прошли детские годи и девичество мамы
После смерти нашего отца старшие дети разъехались по свету: кто учиться, кто искать счастья. Началась коллективизация и неотъемлемая её составная часть – «обобществление». Маму «записали», то есть загнали, как потом говорили, в колхоз, «обобществили», то есть забрали, лошадь и корову. По одной всё же оставили, но на лошади один из старших братьев должен был возить почту в райцентр Демянск, что в сорока километрах от хутора. Так же «обобществили» с большим трудом нажитый к тому времени кой-какой сельхозинвентарь: плуги, бороны, сеялку, веялку и тому подобное. Хутор Черноречье, состоявший из одного нашего дома, располагался на берегах речки Чёрной и озера Девятовского, на противоположном берегу которого организовали колхоз деревни Девятовщина. Чтобы идти на работу в колхоз, маме нужно было или обойти озеро (примерно, 2,5 км в одну сторону), либо переплыть его. Для этого использовался так называемый плот: пять-шесть вместе сбитых брёвен. Можно себе представить все мытарства мамы! И в колхоз на работу надо не опоздать, и за скотиной смотреть, и детей накормить, напоить, намыть и обстирать. Да и детям в школу ходить далековато – в Полново, лесом три километра в одну сторону. Надорвалась матушка, не выдержало её сердечко, участились приступы, а врача-то ведь нет. Думали-подумали и решили из колхоза выйти. Хуторской дом, «большой», – продали, и в 1936 году купили избушку на одну малюсенькую комнатушку в селе Полново. Из хорошо запомнившихся сильных «хуторских» впечатлений, было три. Первое – хуторская вольница, полная свобода. Летом целыми днями, с утра до вечера две моих ближайших сестры («двойняшки», как тогда говорили), Аня и Тоня вместе со мной «исследовали» близлежащие участки территории, – где и что в лесу росло и как выглядело. У нас были свои заветные уголки, «лидинки», рощицы, полянки, перелески и абсолютная свобода, за одним исключением: забираться в лес далеко от дома (условные границы были определены мамой) было запрещено, так как мы могли потеряться. А главное – в лесу обитали ядовитые змеи: чёрная и серая гадюки, какие-то страшилки, например, медяницы и медянки, которых мы очень опасались, – ведь бегали босыми, обуви не было. Лидером и заводилой, выдумщиком всех наших игр, походов, приключений всегда была бесстрашная Тоня. Если, к примеру, ей встречалась змея, она обязательно пыталась, и чаще всего успешно, убить её, в то время как мы с Аней тряслись от страха. Второе сильное впечатление – смерть и похороны папы. Я почему-то решил, что в ходе похорон поп обязательно столкнёт меня кадилом в могилу. По этой причине участвовать в похоронах отказался. Да и мал был, – в таком деле обуза. Рано утром старший брат Александр посадил меня «на кукушки», то есть я сидел на его спине, обхватив шею руками, а мои ноги придерживал брат, и отнёс на соседний хутор к Ключниковым, где я и пробыл весь день. Третье, наиболее сильное или, скорей всего, жгучее впечатление – зимний голод 1934 – 1935 годов. Есть было нечего, даже детям. Пятилетним мальчиком я вызвался «ходить по миру», то есть просить милостыню в соседних селениях. До сих пор чётко и ясно помню, как в первый раз по льду перейдя Девятовское озеро, вошёл с торбой в избу, но в сенях торбу обронил. Женщина, подав мне кусок хлеба, спросила, а куда я положу его. – У меня есть торба,– говорю. – А где же она? – Да я там её оставил. – Так ты не оставляй, а повесь её на плечо. Обескураженный, стремглав выскочил я из избы и обнаружил злополучную торбу в сенях на полу, и, конечно же, теперь надел её на плечо. Подавали, кто как. Кто побогаче (изба, обстановка получше), те поскупее, а кто победнее, те пощедрее. Кто с милосердием, а кто и с укором. В зажиточные дома особенно заходить не хотелось. Испытанные при этом чувства горечи и унижения сохранились во мне на всю жизнь. В хуторской период (впрочем, всю жизнь) очень дружно мы жили с двумя младшими сёстрами-двойняшками, Аней и Тоней. Нас так и звали «святая троица», «неразлучная троица». В знак солидарности с сестричками я носил платьице и говорил «я пошла», «я сделала» вместо «пошёл», «сделал». На хуторе это особенно, по-видимому, не волновало, с чужими людьми мы не общались. Когда же мы переехали в Полново, я стал понимать, что так говорить уже нельзя, – засмеют. Это был очень трудный для меня период (хотя этого никто не замечал): не мог сказать «принесла», «съела», но так же ещё не мог сказать «принёс», «съел». Поэтому некоторое время я просто не произносил ни то, ни другое, мучаясь в душе. Наконец, Рубикон был перейдён, но как мне это далось, не знает никто. Это был самый первый в жизни случай насилия над собой. Спустя много лет всё ещё не любил, когда об этом кто-либо заговаривал.
Село Полново
Полново – в своё время большое и богатое, когда-то купеческое, село, со школой (начальной и средней), больницей, почтой, магазинами, сельсоветом, различными заготовительными организациями – конторами «заготзерно», «заготлён», «заготскот», машинно-тракторной станцией и так далее, и, конечно же, – с церковью. Поэтому колхоза в Полнове не возникло. Это поселение деревней как бы и не было, не считалось. Мама занималась домашним хозяйством, работала на своём небольшом приусадебном участке, ходила на так называемые подённые работы (мыть пол, делать уборку жилья, помогать кому-либо по хозяйству), – одним словом, батрачила.
Мама Анна Павловна. Царство ей небесное!
Некоторое время у нас в хозяйстве ещё была корова, но в последний год она почему-то осталась яловой и поэтому давала мало молока. Нужно было оплачивать работу пастуха, который пас скот со всего села в так называемом выгоне. После третьего или четвёртого, как казалось, безрезультатного визита к быку было решено, что корова яловая. «Визиты» эти оплачивались, и немало. Кормёжка была скудной и дорогостоящей. Зарезали коровушку на мясо, и только тут выяснилось, что у неё был плод, к тому же – тёлочка. Было очень жаль, но уже поздно. Одна мамина знакомая старушка, должно быть, дальняя родственница (вечная ей память!), научила маму в 1938 году вязать на спицах шерстяные платки с красивыми орнаментами по краям – с каймой. Вязала мама вечерами, при свете единственной керосиновой лампы, в то время как мы, четверо самых младших детей, за одним столом готовили школьные уроки. Мама «клевала» носом над вязаньем, а затем просто засыпала сидя. Мы посмеивались, а потом умолкали, – ведь мама вставала раньше всех, топила печку, готовила еду и в семь утра будила нас, чтобы накормить и отправить в школу. В предвоенные годы маме стали помогать понемногу старшие дети – изредка присылать немножко деньжат. Так что у нас на столе иногда стал появляться белый хлеб, а затем мы узнали, правда, не на долго, что такое сахар.
Мамины птенцы в сборе. Снимок запечатлел редкое событие, когда все мы были вместе уже самостоятельными людьми в солидном возрасте
Полново… Как много в этом звуке для сердца селигерского слилось, как много в нём, отозвалось!!! Прежде всего, это красавец Селигер. Чистейшая прозрачная вода, нежно-голубой цвет зеркала, прибрежные песчаные отмели, острова и бесчисленные островки, величественный Полновской плёс, бесчисленные заливы и бухточки и великолепнейший смешанный лес, вплотную подошедший к берегам так, что местами ветви черёмухи и иных раскидистых лиственных деревьев повисли над водой, образуя живописные «гроты», «аллеи», неповторимые по красоте незабываемые уголки. Чего только стоит один остров Бровны с могучим сосновым лесом (помните, у Шишкина – «Роща корабельная»?) и окаймляющим широким пляжем с абсолютно чистым прозрачно-белым песочком. Такого на пляжах, да и вообще в жизни я больше не встречал, даже на югославских и александрийских пляжах… А прибрежные поляны, перелески? Видишь их – сердце радуется, испытываешь одно-единственное желание – побыть на них, посидеть, походить, полежать здесь, в траве-мураве поваляться. Хороша была на Селигере и рыбалка. Правда, я никогда ею не занимался. Брат Михаил, помнится, пытался приобщить меня к этому делу, но неудачно: ловить рыбу на удочку мне всегда казалось самым скучным в мире делом. А кроме того, брат покуривал, от мамы это скрывал, а мне наказывал: – Смотри, матери не проболтайся. Так как к курению и неправде я уже тогда относился отрицательно, то считал своим долгом обязательно сказать маме, и, конечно же, ябедничал, а брат на меня злился. Торчать на лодчонке целый день мне было не только скучно, но и тяжело, противно. Не получился из меня рыбак! Зато ловля раков была одним из любимых занятий. Зайдёшь в воду почти по пояс. Вода чистая и прозрачная. Высматриваешь, где возле камня кучка песка нарыта, – значит, там прячется рак. Осторожно подсовываешь туда руку и быстро хватаешь рака за спинку, иначе он либо убежит, либо схватит тебя клешнёй, да так больно, и не отпустит, пока не погрузишь его в воду, держа за спинку свободной рукой. В какое-то время года на шейках самок появляется икра (или малюсенькие рачата). Ох и вкусна же была та икра! Правда, пожирание икры иногда заканчивалось плохо. Если неудачно поднесёшь рака ко рту, он схватит клешнёй за лицо. В таком случае приходилось прибегать к чьей-нибудь помощи. Бывало, не обходилось дело без слёз. Могуч, красив и богат Селигер, но он был далеко не единственным озером в краю родном. В окрестностях Полново небольших озёр великое множество. Раков ловили на Девятовском или Глинском, купаться любили на озерце Васильковом. Прямо у берега оно очень глубокое, а вода в нём всегда теплее, чем в других, но купальщики должны были уметь плавать или хотя бы просто держаться на воде. А плавать мы научались немногим позже, чем ходить. Помню речку Крутушу, что впадает в самую северную часть Селигера, а протекала она очень близко от нашего домика. Там мы, бывало, пропадали целыми днями, если не было наряда на работу.
1937 год. Самый первый мой снимок. Сапоги явно на три размера больше, чем нужно, – с ноги старшего брата
Эх, и хороша же была житуха вольготная на Селигере! Если б только не холодная зима (с одежонкой дело неважно обстояло) да ещё – посытнее б! Летом мы («святая троица») собирали лесные ягоды и продавали землянику, к примеру, по 15 – 20 копеек за большую глубокую полную с верхом (с горкой) тарелку. На вырученные деньги покупали хлеб в магазине, особенно любили белый, с ним вкусно и сытно пить чай. За земляникой подходила морошка, потом малина, черника, голубика (гоноболь), затем брусника и клюква. Так как клюква растёт на болотах, детям без взрослых собирать её не позволялось. Да мы не очень-то и рвались,– ведь она тогда казалась такой кислой. К тому же болото вообще считалось пристанищем нечистой силы, и мы побаивались туда ходить. Варенья из ягод почти не варили – в семье никогда не было сахара. Малину и чернику сушили, бруснику – мочили, а из клюквы варили обалденные кисели. Помню, на чердаке нашей избушки всегда вплоть до самой весны лежала большущая куча клюквы, а также ветки рябины с ягодами на ней. Рябина становилась съедобной и вкусной только после того, как ударят морозы. И клюква любила мороз, не портилась и дозревала. Важным промыслом и работой для нас были грибы. Начинались они ранней весной, со сморчков и строчков, их можно было жарить или варить с ними картофельный суп. Всё лето, как помнится, росли рыжики, сыроежки (у нас их называли горянками), подосиновики с подберёзовиками (их, должно быть, за дряблость, не очень жаловали и называли обабками), а ближе к осени – царь грибов – Белый. Сухих грибов хватало на всю зиму до самого лета; картофельный суп, разваристый с сухими (преимущественно чёрными) грибами, не выходил из нашего нехитрого меню и никогда не надоедал. Волнушки, грузди, «подгрёбы» (правильного названия не знаю) и часть рыжиков шли на засол (из свежих рыжиков, ох, и хорош был суп!). Мама едва успевала перерабатывать собранные лесные припасы. А я с тех детских лет обожаю горячую отварную картошку с солёными грибами. Грибной промысел продолжался до глубокой осени, промышляли даже «после школы», то есть во второй половине дня в сентябре и октябре. В холодное время года основным видом работы для нас была, как наставляла мама, – учёба. Надо сказать, учились мы прилежно, добросовестно, старались постичь как можно больше, особенно Аня. Она была отличницей, как и мы с Тоней. Нам много помогала Тоня, она всё схватывала на лету и во всём хорошо разбиралась; особенно успешно она помогала нам переваривать арифметику, а затем и всю математику. Брату Михаилу учёба доставалась очень большим трудом, он плохо слышал и много болел. Помогать ему было некому, он на пять лет старше Ани с Тоней. В раннем детстве позвоночник у Михаила, по-видимому, был повреждён, у него образовался горб, так с ним брат всю жизнь и промучался. Отличник – это для ученика почётное звание, но я недолюбливал отличников, так как они обычно были слишком гордыми и какими-то недосягаемыми, часто многие из них просто «заносились». Всё увиденное, услышанное и прочитанное я крепко запоминал. Старшие в семье частенько дивились моим познаниям, и я получил домашнее звание (простите, прозвище) – «профессор», «профессор кислых щей», что мне очень льстило и подвигало на приобретение новых знаний. Мама наша была строгая и справедливая, поблажек нам не давала, но и не наказывала физически, то есть не порола, как это в те времена было обычно принято в семьях. Однако, не могу забыть такой эпизод. Керосиновая лампа была единственным в семье «техническим» прибором и мы в отсутствие взрослых любили иногда подзаняться ею. Мы крутили механизм подачи фитиля и подчас фитиль упускали. То есть он выпадал из горелки и оказывался в керосиновом баллоне лампы. Для заправки фитиля нужно было вывернуть горелку, достать из баллона фитиль, ровненько подрезать его верхний край и вставить в узкую прорезь горелки. Естественно, мы, малыши, сделать этого не могли. Поэтому, когда уже в густых сумерках мама возвращалась с работы и хотела зажечь лампу, оказывалось, что прежде надо было устранить последствия нашего баловства. «Кто это сделал?», – строго спрашивала мама.. А мы и сами не знали, кто именно, а потому каждый спешил сказать: –«Не я». Мама сердилась, ведь после возни с керосином отмыть руки было трудно, да и вода была в озере, её оттуда носили в вёдрах на коромысле. Маме надо было быстро и нас накормить и скотине дать, а главное, чистыми руками коровушку подоить. Брала она в руки прутик или кушак и пыталась им хлестнуть каждого из нас по мягкому месту. Мы же при этом, как дурачки (наверное, мы ими и были) бегали вокруг стола друг за другом, а мама стояла на месте и каждого из нас, мимо неё пробегающего, по очереди угощала по попе. В конце концов, сцена эта становилась такой уморительной, что мама не выдерживала и смеялась, а мы все трое хором кричали: «Мамочка, прости, мы больше не будем!». Тем не менее, случалось это не раз и не два (потому так хорошо и запомнилось). Лампу утром мама стала ставить высоко под потолком, чтобы мы уже не могли до неё добраться. Пожалуй, это был в своём роде единственный случай, когда к нам применялось телесное наказание, да и то – совсем лёгкое, к тому же и протекало оно не без юмора. Вечерами, у керосиновой лампы, после того, как все школьные уроки были сделаны, часто практиковалось чтение вслух. Запомнились «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н.В. Гоголя, «Отверженные» и «Маленький оборвыш» В. Гюго, «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу, «Том Сойер» М. Твена, «Граф Монте-Кристо» А. Дюма, «Всадник без головы» Майн Рида, русские народные сказки и многое другое. Кроме того, мы любили петь. Пели хором все советские песни, частушки. Мне казалось, что главное в хоре – кричать как можно громче. Да, видимо, не только мне – пели очень громко («По военной дороге шёл в борьбе и тревоге»…), так что соседи говаривали про нас: «Бедно живут, но весело и дружно». Любимым праздником был Новый год. Правда, мне никак не удавалось воочию увидеть, что же такое приход Нового года, так как, сколько ни старался, дождаться его не мог и засыпал. Но вот ёлки новогодние!!! Это было какое-то чудо. Сначала в школе, затем приглашения к соседям, с детьми которых мы дружили. И, наконец, своя ёлка с украшениями, которые мы изготовляли сами (рисовали, вырезали, лепили), с конфетами и пряниками. Рисовала Тоня, несколько её рисунков у меня сохранилось. И обязательно с «концертом», к которому каждый готовился задолго. В основном, это были стихи и рассказы, а также игры, пляски, пение под гитару. Заканчивался праздник раздачей немудрёных подарков (гостинцев), которые нам были дороже всего на свете, и обязательным сладким столом. Новогодние ёлки 1940 года были особенно радостны и приятны. А всё дело в том, что впервые в моей жизни (на десятом году) мама смогла купить для меня первую новую вещь – хлопчатобумажный костюм (куртку с брюками) светло-серого цвета. Ведь раньше я ходил только в обносках, не раз перешитых из одежонки старших братьев и сестёр. К тому же за успехи в учёбе директор школы наградил меня сатиновой рубашкой светло-синего цвета – косовороткой и плетёным белым шёлковым поясом с кисточками на концах. Примерив и посмотрев на себя в зеркало, я наотрез отказался, несмотря на все увещевания, носить пояс: в зеркале я увидел не себя, а какого-то парубка. Так пояс и пролежал несколько лет невостребованным, пока наши женщины не приспособились каким-то образом вытаскивать из него отличные тонкие и прочные шёлковые нитки. Запомнилось мне всё это потому, что в своей новой одежде я впервые почувствовал себя человеком. Костюмчик и рубаху я очень берёг, носил их в качестве выходной одежды несколько лет, пока не вырос из них. В 1938 году село наше радиофицировали. Обзавелась громкоговорителем и наша семья. То была знаменитая чёрная тарелка-репродуктор. Для меня это был праздник. Нет, это был не просто праздник, это было всё. Часами просиживал я у репродуктора, слушая передачи из Москвы и Ленинграда (ленинградские передачи транслировались реже, но нравились мне больше). Особенно запомнились музыкально-драматические радиопостановки и, как мне казалось, «живая» – симфоническая музыка. Я слышал её впервые. Помню, как, затаив дыхание, слушали мы всей семьёй оперу «Иван Сусанин», а потом и «Пиковую даму». Ежедневно в 16 часов транслировались специальные радиопередачи для школьников, очень интересные, разнообразные по тематике и способам преподнесения. Из них можно было узнать очень много нового. С тех пор я полюбил радио, именно с тех пор, и навсегда полюбил серьёзную, настоящую музыку. Музыку «вживую» впервые услышал летом 1940-го года. На грузовой машине, полуторке, ехал мимо нашего дома духовой оркестр, исполняя какую-то пьесу или танец. Помню, я услышал, примерно, такие звуки: «Тури – ури, перк, перк, тури-ури, перк, перк, тури-ури, перк, перк, перк, перк, перк». Мелодию выводил баритон, а перк-перк – это аккомпанемент – тенора, альты и бас. Всё это я узнал много позже. Мне понравилось, хотя было немного смешно. Стала появляться в Полново и автокинопередвижка. Электричества в селе не было вплоть до перестроечных лет. «Кино» привозили на автомашине с дизель-генератором. Не помню, чтобы кинофильмы мне особенно нравились. Я почему-то их содержание понимал плохо, и всё время спрашивал: «Это наши или белые?» за что получал нарекания и даже щелчки по голове. Но ни одного фильма не пропустил, вход бесплатный, так как киномехаником работал Валентин Васильевич Васильев, муж моей сестры. С его приездом в доме появилась и ещё одна диковинка – патефон. Вот от него-то я не отходил ни на минуточку. Пластинок было немного, но записи все хорошие: Л. Утёсов, Л. Русланова, М. Александрович, Ф.И. Шаляпин и некоторые другие. Любовь, тяга к музыке всё возрастала. Вместе с тем появился интерес к новой технике, радиотехнике. Мечта поступить в институт киноинженеров (был такой в Ленинграде, и я это знал) владела мной долгие годы, сменившись в горькое несбывшееся сожаление. Учиться в школу пошёл с восьми лет, тогда это было нормой. Умел прилично, как мне казалось, читать и уже кое-что знал из школьной программы, так как на два года вперёд шли мои сёстры Аня и Тоня. Уроки они учили частенько вслух (особенно – Аня), а память у меня была неплохая. Потолок над печкой был оклеен газетами, я разбирал сначала заголовки (один из них очень меня интриговал – «Атомная бомба», я всё пытался выяснить, что же это такое, но никто объяснить мне не мог), а затем приобщился и к разбору текста статей. Так что учиться мне было всегда (в школе, в училище, на классах и курсах) легко и просто. Частенько в школе было скучновато – мне хотелось идти вперёд быстрей, но в классе было 35 деревенских детей с разной степенью способностей и подготовки, а существовавшие тогда правила в системе народного образования предусматривали равенство в обучении, индивидуальных подходов не было, все получали одинаково. Учительница первая моя – Елизавета Михайловна Виноградова, вечное ей спасибо, была строгим, и, я полагаю, толковым воспитателем и преподавателем. Мы, её ученики, знали это ещё тогда, в те времена, и очень ею гордились. В период избирательной компании она работала в участковой комиссии, и её класс (наш класс) передавался на два месяца другой учительнице. Вот тут-то мы и могли почувствовать разницу. У Елизаветы Михайловны дисциплина в классе была идеальной. Никто из нас не имел права без разрешения вставать с места, ходить по классу, разговаривать или что-то там выкрикивать, пересаживаться на другое место и тому подобное. Забитыми и униженными при этом мы себя не чувствовали. Каждый мог быть выслушан и удовлетворён, надо было всего лишь поднять руку. Говорила Елизавета Михайловна на прекрасном, правильном русском языке, без употребления территориального диалекта (что в те времена было большой редкостью даже для учителей), грамотно, хорошо поставленным голосом с надлежащей интонацией. Умела она, как надо (тактично) отругать, умела и похвалить, хотя на похвалы была скуповата. По-видимому, родители в своё время сумели дать Елизавете Михайловне хорошее образование. Её отец был кузнецом, жили они в собственном двухэтажном доме, первый этаж кирпичной кладки (высокий) занимала кузница. Так прошли три первых школьных года. В Полново я дружил с соседями-однолетками. Первым моим настоящим другом детства был Миша Нечаев, сын преподавателя немецкого языка в школе. Жили они в хорошей, большой обставленной квартире в здании бывшей начальной школы. У Миши был «свой» уголок со специальным столом, за которым было очень удобно читать, писать и вообще заниматься. Жили они по тем временам прилично, имели много книг, питались хорошо, особой нужды не знали; семья была интеллигентной, а Миша хорошо воспитан – не зазнавался, был простым, честным, открытым человеком. Очень жаль, что пути наши в связи с Отечественной войной разошлись, и больше мы не встречались. Об этой дружбе я тосковал всю жизнь, но даже переписку наладить так и не удалось. Помню так же Борьку, Нюрку и Кольку Борисовых, но это были ребятки совсем не те.
Война, эвакуация, чужбина
Глухомань Кировской области
Война…. Она уже дважды стучалась – сентябрь-39, Польша, затем Финляндия. Небольшое затишье, и вот 1941 год. Пришла она, – страшная, ужасная, нежданная, неумолимая, ненавистная. Перевернула и искалечила судьбы миллионов людей, отобрала родных и близких, разорила города и сёла, оставив людей без крыши, без имущества, без средств к существованию, без мужской защиты. Неожиданно быстро приближался фронт, наши войска всё отступали и отступали. Семейный совет принял решение – бежать. В семье было две молодых женщины – сёстры мои Мария и Наталья, две 14-летних девочки – Аня и Тоня, двухгодовалые племяши – Вета и Юрик. А мужиков-то – один только я! Очень боялись фашистов. И хотя бежать, в общем-то, было некуда, всё же решили бежать. 11 сентября на военной машине (совершенно бесплатно!) с кое-каким скарбом поехали в сторону железной дороги, к вечеру нас привезли на станцию Валдай. Выгрузились и расположились под открытым небом, прямо у железнодорожного полотна. Так мы стали беженцами. На станции скопилось множество беженцев, ждали состав. Эшелон подали ночью: несколько товарных вагонов – «теплушек» для людей и открытые платформы для вещей и с ними по одному человеку от семьи. Люди в давке, с большим трудом погрузились в «теплушки» с нарами. Беженцев было слишком много, и в вагонах было тесно, мест на нарах не хватало. Мне почему-то из-за тесноты никак не удавалось вытянуть ноги, они всё время затекали и очень просились выпрямиться, я крутился и вертелся и потому всем окружающим мешал. А эшелон шёл на восток. Утром, на одной из многочисленных и неопределённых по длительности стоянок, я попросился уйти на открытую платформу, мне разрешили. И вот я вместе с сестрой Натальей (в семье мы звали её Тасенькой) оказался сверху на тюках. Ночью сестра придерживала меня рукой, чтоб не выпал. И не напрасно: однажды под напором груза самопроизвольно на ходу поезда отвалилась (открылась) часть борта, и даже что-то выпало, но меня Тасенька сумела удержать. Поезд остановили, борт закрыли и забили деревянными штырями надёжно. Далее ехали спокойно, не остерегаясь. Под бомбёжку, к счастью, не попали. Кормили нас всю дорогу хорошо, дважды в день получали бесплатно горячее питание. На каждой стоянке, если она приходилась на станции, частенько эшелон простаивал часами, что называется, «в чистом поле», на разъездах, ожидая прохождение военного состава или пассажирского поезда. Была холодная вода (сильно хлорированная) и кипяток, а все прочие удобства и нужды отправлялись либо в поле, либо прямо под вагонами. При этом сначала было очень странно, что никто никого особенно не стеснялся. Отчасти дело сделала насущная необходимость и вновь приобретённая привычка, отчасти – потому, что беженцами были только женщины да дети. Так мы доехали до Горького, где наш эшелон поставили в отстой, решая, кого куда отправлять дальше. Стоянка была очень нудной, в утомительном ожидании. Наконец, было решено везти нас в Кировскую область, и вот через двое суток поздним вечером мы прибыли и выгрузились на станции Фалёнки. Нас и ещё несколько семей разместили в закрытой церкви, прямо на каменном полу. Первым делом, начали «искаться» – искать друг у друга и уничтожать вшей. А завшивели мы за эти полмесяца в дороге изрядно. Раньше мама такого никогда не допускала, мыла нас и обстирывала исправно. На следующий день нам было выделено две подводы, повезли в село Уни, районный центр, что в 70-ти километрах к югу от станции Фалёнки. Сколько ехали – не помню, кажется, без остановок. Был конец сентября, шли дожди, и было очень холодно. Сквозь дремоту, как сейчас помню, слышались странные выкрики возницы: «Ннооо, ди-давай, нноо, ди-давай!». Это женщина понукала лошадь. В Унях встретили нас по-царски, разместили в тёплой, чистой гостинице «Дом колхозника», где мы отмылись, отогрелись, отоспались и досыта наелись. Впервые в жизни каждый из нас спал на отдельной кровати с настоящими пуховыми подушками и белоснежными простынями. Так мы прожили в гостинице около недели. Тася и Муся (Мария) каждый день с утра куда-то уходили («за распределением»). Наконец, отыскалось одно место, где сразу требовались и учительница и заведующая здравпунктом – акушерка. Снова подводы, снова утомительный путь на телегах и свежий ветер до мозга костей. Поздним вечером приехали-таки в деревню Были, что в двадцати пяти километрах к югу от Уней, где наутро председатель колхоза предоставил нам отдельный пустующий дом на две комнатки с кухней и с полатями. Для нас полати были диковинкой, но на деле оказалось, что это очень нужная и необходимая часть деревенского бытия, так что мы разместились вполне прилично, и было это 6-го октября 1941 года. Первая трудность, с которой мы столкнулись, – великий русский язык, оказывается, столь разнообразен, что понять местных жителей мы попросту не могли, как ни старались. Во-первых, многие обычные привычные русские слова означали совершенно не те понятия, к которым мы привыкли. К примеру, слово комары означало, что на самом деле это муравьи, а настоящие комары именовались чибинями, в то время как муравьи были просто мурашами. Выражение «губа зябёт» означало – лоб мёрзнет и так далее. Во-вторых, в употреблении использовались нерусские слова, их надо было переводить (видимо, то было влияние близлежащей Удмуртии, административная граница которой проходила в восьми километрах). Например, очень красивое слово «баско» успешно заменяло слово «хорошо», а «баска» – хороша. «Девка больно баска» означало: девица очень хороша, красива, «мальчик больно бастенький», значит мальчик очень хорошенький, пригоженький. Особенно трудно было понять и привыкнуть к многочисленным непереводимым словам и выражениям. Вопросительное слово «колдыже?» означало крайнюю степень изумления или недоумения. В-третьих, выговор (произношение) даже обычных понятных слов был необычным, особенно у женщин: говорили скороговоркой, с характерной непривычной интонацией. По первоначалу нашёлся переводчик – сын председателя колхоза Афоня с десятилетним образованием. Вскоре его призвали в армию, переводчиком стал его отец, а впоследствии мы и сами могли кое-как разбираться и понимать население. У меня был составлен довольно объёмистый словарь, но, к сожалению, в связи с частыми переездами он потерян. Вторая трудность заключалась в том, что есть (кушать) нам было абсолютно нечего, денег у нас не было совершенно, и первое время мы жили исключительно за счёт подаяний (точнее, приношений) деревенских жителей. Им было интересно познакомиться с беженцами (официально мы именовались эвакуированными, но это слово местным жителям было просто не под силу, некоторые говорили – «выковырянные», что, впрочем, не далеко от истины). Они приходили, глядели на нас во все глаза, как на диковинку, произносили непонятные нам отдельные фразы, а больше молчали. Конечно же приносили, кто что мог: кто хлеб, кто картошку, кто капусту и другую снедь, так как знали, что мы бесхозные, и есть у нас нечего. Председатель колхоза выделил нам сколько-то муки, овощей и даже немного мяса и предложил, если хотим, выкопать ещё не убранный в поле картофель. А уже выпадал снег, но растаял, и случались морозцы. Мы с радостью согласились и заготовили себе картошки, хоть и не очень качественной, на всю зиму. В дальнейшем появились другие источники питания. Третья трудность отчасти была связана со второй, а состояла она в том, что в школу мне нужно было ходить в село Верхолемье. Это два километра в одну сторону. А сёстрам – ещё дальше, в Сосновку в шестой класс – там была средняя школа. Десять километров от Былей – далековато. Одежонки подходящей не было. Сначала шли бесконечные дожди, грязь по колено, затем не заставили ждать и морозы (зимой нередко за 40 градусов). На семейном совете было решено: всем ученикам (нас было трое) учёбу отложить до следующего года и принять самое активное участие в борьбе за выживание, то есть, в добыче средств существования. Зарплаты учительницы и акушерки не хватало даже на молоко малышам. Решено было всей семьёй взяться за промысел, а именно – вязание шерстяных шалей (платков). Их производство подразумевало несколько этапов. Полученную от заказчика грязную овечью шерсть отмывали, сушили, разбивали, теребили, то есть растаскивали вручную, пряли пряжу, сучили (скручивали две тонкие нити в одну) сматывали в мотки, снова стирали набело, разматывали в клубки и затем уже вязали платки на длинных тонких гибких деревянных спицах. Мне было предписано участие в растаскивании шерсти (довольно трудоёмкий процесс и весьма нудный), а главное – сучить нитки веретеном. Дело это неинтересное и скучное, крути веретено на столе, да сматывай на него полученную одну вместо двух готовую нить. После этого я сматывал с веретена нить в моток, а затем делал клубок. Мне хотелось более интересной, творческой работы, и меня научили вязать. До серьёзного вязания дело не дошло, но владеть спицами научился. Например, связать носки, варежки, шарф и даже перчатки и сейчас мне ничего не стоит; только теперь от спиц немеют, цепенеют пальцы. Один старый – престарый сосед по имени «дед Илёка» (то бишь, Илья), частенько захаживая к нам, рассказывал всякие весёлые и необычные истории и небылицы из своей молодой жизни. Например, как он ночью гнался за девкой и угодил в глубокую грязную яму, где просидел до утра, покуда ему не помогли выбраться. Так вот, увидев, что я сильно скучаю, непрестанно крутя по столу веретеном, принёс нам старую самопряху – ножную машинку, на которой при определённом навыке можно было быстрей и легче прясть шерсть и скручивать нить. Машинка была немного повреждена, но мне удалось её исправить и приспособить для того, чтобы сучить нитки. Дело пошло веселей и интересней, у меня появилось больше времени для чтения и прослушивания грампластинок. Патефон во временное пользование привезла нам в Были из Мокрушат одна эвакуированная дама, жена капитана второго ранга. Радости моей не было предела, ведь ни электричества, ни радио в деревне не было. Старшие решили: первые заказы всем былёвцам выполнить безвозмездно в благодарность за оказанную помощь в первое время после приезда. Кроме того, это было чем-то вроде рекламы – мы наглядно показали, на что способны. Шали с узорной каймой и длинными кистями сразу всем понравились, и очень скоро посыпались заказы и из соседних деревень. За работу платили натурой – хлебом, картошкой, замороженным молоком и мясом. Так, благодаря маминой родственнице-старушке, научившей маму вязать, её звали Серафима Дмитриевна, семья сумела найти вполне достойный путь к более или менее сносному существованию. Промысел этот был зимним и продолжался более или менее интенсивно все военные и послевоенные годы. Изменялся состав и количество участников в зависимости от занятости на основной работе. Летом наступала иная страда: огород, сенокос, заготовка дров и. наконец, жатва. Жали всей семьей серпами, по договору с колхозом. Выжнешь один гектар ржи – получишь 2 – 4 пуда зерна или ржаной муки (в зависимости от урожайности и крепости колхоза). Вставали до восхода солнца и уходили чуть свет, слегка поевши, а возвращались всегда затемно. Идти нужно было в одну сторону 3 – 5 км. Очень тяжело было. От усталости ломило руки и спину в пояснице, вечно не досыпали. Меня жалели, щадили. В мои обязанности входило – с раннего утра, чуть солнце взойдёт, «сбегать» в ближайшую деревню Мокрушата (менее одного километра) за молоком; принести так называемую «четверть» – трёхлитровую бутылку. А когда мама приготовит кой какой обед, относил его в поле жницам. В последнюю страду 1944 года я уже тоже был жнецом, уставал до упаду, хотя сестрички и давали мне поблажки – после часового дневного отдыха в поле они не будили меня, пока сам не проснусь. Я ворчал на них от недовольства, а сам был рад – радёшенек и благодарен сестрицам. За молоком теперь ходила мама, она же и обед на поле приносила в то время как малыши спали. Увеличилась на маму нагрузка, зато и площадь убранной жатвы немножко увеличилась. Осенью 1942 года мы из Былей переехали в село Верхолемье, где была начальная школа. Тоня с Аней были вынуждены учиться в селе Сосновка, а потому жили там на частной квартире у хозяйки Авдотьи за два большущих воза сена. Через год к ним присоединился и я. Надо заметить, что сено нашего приготовления было высококачественным и очень отличалось от местного. Оно было ярко выраженного зелёного цвета, очень ароматное, ломкое, хрустящее. Такого сена местные жители не заготовляли (не умели или не хотели), и наше зелёное пахучее сено высоко ценилось, так как его с удовольствием поедали не только коровы (и давали больше молока) и лошади, но и овцы, а в запаренном виде и свиньи. Лугов вокруг было много. После того, как трава была скошена, её «разбивали», – равномерно расстилали по лугу, несколько раз «ворошили» (переворачивали), сгребали в валки (на ночь или перед дождём), утром снова разбивали и затем ворошили, поэтому трава не прела и не слёживалась, а хорошо просыхала. Потому и сено получалось «классным». По субботам вечером мы втроём из Сосновки бежали домой, а рано утром в понедельник с небольшими продовольственными припасами возвращались в школу. Ходили, как правило, пешком, зимой иногда на лыжах. Несколько слов о школе. В пропущенный от учёбы год мне очень хотелось учиться, и когда я думал, что вот, наконец-то, скоро снова пойду в школу, у меня от удовольствия и волнения перехватывало дух, а в животе что-то как бы трепыхалось. В скобках замечу, что точно такое же впечатление впоследствии я получал, подъезжая на поезде к Ленинграду, к дому или к Москве. Сестра Тася была заведующей школой и определила меня к хорошей учительнице, Анне Семёновне. Четвёртых классов сначала было два. Учительница действительно оказалась хорошим, добрым человеком. На второй день занятий она устроила проверочный диктант, а затем и контрольную по арифметике. Большинство детей написали и решили на 3 и 2, у меня же не было ни единой ошибки. До сих пор помню, как восхищалась моими работами Анна Семёновна, и я сразу же стал её помощником и любимцем. Иногда в очень вежливой форме я говорил учительнице, что такое-то слово она произносит неправильно, вот посмотрите, в Орфографическом словаре Ушакова ударение стоит на другом слоге. Никогда она на такие замечания не обижалась, напротив, говорила спасибо. Впрочем, учила она нас всего месяца три, а потом заболела и куда-то уехала. Моей учительницей стала сестра – Наталья Павловна. Так и только так теперь в школе я должен был называть её. Тасенька в одном классном помещении одновременно вела два класса: наш, небольшой, четвёртый (один ряд парт) и ещё – второй (два ряда парт). Даст нам задание, мы сидим, маракуем, а она большую часть времени уделяла малышам. Сестра была очень строгой и доброй, отзывчивой учительницей, её любили даже лодыри и хулиганишки. Мне часто приходилось отдуваться за весь класс: когда никто не вызывался отвечать, сестра подымала меня, и попробуй, не расскажи на «отлично», дома будут «разборки» с участием матушки. Впрочем, таких «позорящих» случаев за год было не более двух, обычно я справлялся с поручением, а иногда получал похвалу. Надо сказать, что к четвёртому классу у меня очень испортился почерк. Видно, оттого, что год не учился и почти ничего не писал. Думаю, полученные стрессы во время эвакуации тоже сказались. У Таси и у Тони почерк был очень красивым, ровным. Я решил: буду писать не хуже, чем они. Часами просиживал, копируя сестёр и исправляя свой недостаток. В конце концов, добился некоторого успеха. На всю жизнь у меня выработался почерк, похожий на женский. Мне это не нравилось, но что делать – учился у сестёр, мужчин вообще не было, они воевали. Пятый класс, Сосновская школа. Учителя были очень даже неважнецкие. Учительница литературы безуспешно пыталась доказать мне, что в стихах А.С. Пушкина «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась….» слово «вечор» – обращение (от слова вечер), а потому его нужно выделять при чтении ударением; я же доказывал, что это вводное слово, сокращение от «вечером» и его надо произносить как бы вскользь. Ну, это так, к примеру. Всё равно не убедила меня, и до сих пор считаю, что прав был я и Александр Сергеевич. Немецкий язык преподавал учитель географии, он сам-то его знал чуть лучше нас. Особенно же меня возмущала учительница ботаники – говорила она почти совсем не по-русски, и интонация, и выговор были отвратительными, а методикой преподавания она совершенно не владела. Класс даже пытался устраивать против неё демонстративные действия… Из Верхолемского периода мне хорошо запомнился быстрый, бурный приход весны, связанные с этим впечатления и переживания под действием оживающей и очень красивой природы. До сих пор не забыл великолепную берёзовую рощу возле нашего дома, её чудесное весеннее возрождение, окружающие леса, в основном, хвойные; лиственные деревья росли только в деревнях, сёлах и рядом с ними. И сейчас, когда я слушаю романс П.И. Чайковского «То было раннею весной» на стихи А.К. Толстого, я отчётливо представляю себе именно ту, верхолемскую, рощу. Запомнилась грибная отличнейшая охота, походы за земляникой и чёрной смородиной (местные жители почему-то чёрную смородину не собирали, считая её несъедобной). И, конечно же, жатва хлеба. В Верхолемье же семья получила известие о гибели мужа старшей сестры Марии – Карпова Николая, танкиста, сложившего свою голову при штурме города Черкассы. Мне было особенно обидно за Юрика, его сына, оставшегося с малых лет на всю жизнь без отца и отчима. В период учёбы в Верхолемье я сдружился тоже с эвакуированным мальчиком одноклассником Колей Говоровым. Он тоже учился хорошо. На празднике ёлки в 1943 году дети выучили сообща с учителями сочинённые частушки, в которых в шутливой форме одни высмеивались за какие-то грехи, другие же восхвалялись. Про нас с Колей пели: «Селигерский Константин с Говоровым Колей в поведенье хороши, отличники в учёбе». Во как!
Владивосток. Музкоманда ВВМПУ
1943-й год был очень неурожайным. Работали всё лето, а заработали мало, так что уже в конце января 1944 года надвигалась голодуха. Семье пришлось очень туго, мы были вынуждены «проесть» даже кое-какие необходимые личные вещи, которые получше и поновее. Летом 1944 года меня пригласил к себе брат Александр. В то время он был лейтенантом, ходил на протезе – большую часть голени правой ноги потерял при обороне Севастополя, на Мекензиевых горах. Он служил начальником фундаментальной библиотеки во Владивостокском военно-морском подготовительном училище, поскольку имел высшее педагогическое образование. Я согласился, желая хоть как-то облегчить существование семьи. Александр прислал «вызов» и воинское требование на билет. И вот 5 сентября 1944 года сестра Мусенька отвезла меня на станцию Фалёнки. Из Уней ехали на грузовой машине ночью, высоко наверху на льняных тюках. Всё время боялись свалиться. Но тюки под нашей тяжестью постепенно оседали, и мы оказались в «гнёздышке». Свободных мест в поезде не было. Однако, мы уговорили станционное начальство выдать мне билет (по требованию) без указания вагона, остальное мы брали на себя. Муся посадила меня (с плетёной корзиной вместо чемодана) на площадку между вагонами, и так я поехал, сидя на корзиночке, прислонившись спиной к входной двери в тамбур вагона. Утром открылась дверь, пришла проводница, стала охать и ахать. Узнав, что я не безбилетный, сказала, что она взяла бы меня к себе в вагон, но у неё купейный, офицерский, и поэтому не может. Но обязательно переведёт меня в общий вагон на большой ближайшей остановке. Так она и сделала. Мне определили сидячее боковое место. И то хорошо – хоть не выпадешь под колёса. Постепенно места в вагоне освобождались. Сначала третья боковая полка для вещей (но на ней всегда спали люди в обнимку с проходящей вдоль вагона трубой большого диаметра). К концу пути, в Хабаровск (дальше поезд не шёл), я приехал на второй нормальной полке, хотя и без постели. В Хабаровске была пересадка на Владивосток, очень трудная посадка в вагон (штурмом), но мне удалось занять спальное место. Итак, 18 сентября 1944 года я прибыл во Владивосток. Впервые в жизни я оказался в большом городе. Как проехать, не знал, а потому решил идти пешком, памятуя мамины слова: «Язык до Киева доведёт». Так, с корзиночкой, за несколько часов я прошагал через весь город и оказался, наконец, измученно-усталым на улице Менжинского, где снимал угол мой брат. Кстати говоря, брата в лицо я не знал – он уехал из дому искать счастья ещё в 1934-м году, его фотографии у нас не было. Знакомила меня с братом, когда он возвратился со службы, хозяйка квартиры. Я стал воспитанником музкоманды (это официальное моё первое воинское звание) Владивостокского военно-морского подготовительного училища. Был одет в военно-морскую форму, зачислен на все виды довольствия. Число воспитанников колебалось от двух–трёх до восьми. Одни приходили, как я, другие становились музыкантами оркестра – военнослужащими срочной службы или уходили на «гражданку». Жили мы в отдельном специально выделенном помещении под присмотром старшины сверхсрочной службы, который нам особенно не досаждал. Утром мы уходили в школу, а после обеда был «класс» (репетиция оркестра в целом под руководством капельмейстера) или же индивидуальные занятия с наставниками – музыкантами одноимённого инструмента, а чаще – самостоятельно. Меня «посадили» на флейту, а поскольку в оркестре флейтиста не было, со мной занимался сам капельмейстер, майор К.А. Ушаков, добрейшей души человек. Он сразу же ко мне отнёсся очень внимательно, тратил много времени, обучая не только работе на инструменте, но и вообще музыкальной грамоте. Терпеливо выслушивая мои пискливые гаммы, снисходительно относился к неудачам (бывало, некоторые из наставников при промахах били по пальцам). Занятия довольно успешно продвигались, и уже через три месяца Ушаков пристроил меня (бесплатно, безвозмездно!) в городскую вечернюю музыкальную школу: два – три вечера в неделю по 1,5 –2 часа со мной занимался специалист. Чтобы играть в оркестре, необходимо не только уметь владеть инструментом, но сначала надо просто научиться «сидеть в оркестре». С этой целью воспитанников брали в оркестр, когда он работал в городе в театре или на похоронах, либо на концерте в клубе училища. Именно таким образом я познакомился с городским драматическим театром. Сидя в оркестровой яме с инструментом в руках, я должен был по возможности следить по нотам партию флейты, смотреть на дирижёра и слушать оркестр. Вместо этого я внимательно следил за тем, что происходит на сцене. Впрочем, это тоже не возбранялось. Театр мне нравился, и я стал посещать воскресные дневные спектакли, когда только это было возможно. Посещение занятий в музыкальной школе отнимало много времени, так как добираться до школы приходилось сначала на попутном грузовике или пешком через многочисленные почти не освещённые пути станции Первая речка, а затем ещё ехать на трамвае. Возвращался в 22 –23 часа, школьные уроки приходилось делать урывками между обязательными мероприятиями или поздно вечером после отбоя. Но игра стоила свеч. Весной 1945 года Ушаков предложил мне готовиться под его руководством к поступлению в консерваторию, но только на военно-дирижёрский факультет. С детства по-деревенски излишне, даже не в меру, застенчивый, я не мог представить себя в роли дирижёра на всеобщем публичном обозрении. Поблагодарив К.А. Ушакова, я вежливо отказался, сославшись на недостаток времени (оставалось четыре года до окончания средней школы, я понимал, что этого срока мало, если ещё учитывать и повышенную нагрузку в старших классах). 31-ая мужская средняя почему-то железнодорожная школа совершенно разочаровала меня. Требования учителей были низкими, дисциплина почти на всех уроках никудышная, преподаватели уровня весьма не высокого. Преподаватель черчения, например, был настолько старым, неопрятным и безобразным, что его почти в открытую называли Крокодилом, и он, кажется, не обижался. То немногое, что он пытался объяснить, было невразумительно, не понятно, да ещё и не слышно, так как в классе стоял сплошной гвалт, каждый делал то, что и как хотел, а Крокодил всего этого как бы и не замечал, голос у него был по-стариковски слаб. Оценки за работы он ставил по совершенно не понятным критериям, больше внимая выкрикам учеников. Так как я был «новеньким», да ещё во флотской форме, в первой четверти у меня, отличника, появилась двойка. Безусловно, в предмете я был очень слаб, но не на столько же? Естественно, Крокодила я невзлюбил, мягко выражаясь. Но скоро случай помог классу от него избавиться, правда, при весьма странных обстоятельствах. Во время урока кто-то из учеников (но только не я – на такое я был просто неспособен) бросил в Крокодила грязную мокрую тряпку, которой стирали мел с доски, и попал ему прямо в лицо. Такого вынести не мог даже Крокодил. Не говоря ни слова, он встал, забрал свою папочку и вышел из класса. После уроков директор школы Пономарёв поставил весь класс в строй по два в коридоре и сказал, что стоять будем до тех пор, пока виновный не признается. Часа два мы простояли молча, а далее не помню, чем дело кончилось; скорее всего, хулиган или сознался, или же его выдали. Знаю только точно, что с тех пор в классе Крокодил не появлялся. Учительница истории Клеопова Анна Сергеевна обычно «объясняла» нам новый материал по своей, «новой» методике. Она открывала учебник и медленно читала текст, а нас заставляла следить по книге. Примерно так же она нас и проверяла: ученик вставал, открывал как бы незаметно учебник (за спиной впереди сидящего) и начинал по нему читать, а учительница этого как бы не замечала и ставила оценки 5 или 4, если кто уж очень монотонно читал. Пожалуй, единственным «светлым пятном» в школе была учительница русского языка и литературы Алла Яковлевна Теряева. Очень молодая, высокая, худенькая, стройная, всегда опрятно и оригинально одетая, но не очень красивая на лицо, она очень просто, по-дружески относилась к ученикам, как к равным себе. Мне она нравилась как высококлассный специалист своего дела и славный человек. Был у неё один весьма несущественный недостаток – её походка. Ходила она в туфлях на высоких тонких каблуках и как бы слегка, но очень заметно подпрыгивала на каждом шагу, чем вызывала незаслуженные насмешки со стороны разгильдяев. Я был у неё одним из любимчиков, так как хорошо знал предмет и получал всегда и исключительно только пятёрки. Впрочем, за два года два-три раза случались и четвёрки. Тетради по русскому языку у меня были не обычные, ученические, а специально изготовленные (об этом позаботился брат) с чистой нелинованной бумагой. Я очень старался, был аккуратен и почерк к этому времени наладился. Алла Яковлевна устроила школьную выставку лучших тетрадей (за стеклянной витриной). Моя тетрадь красовалась там, как одна из лучших. Одну из таких тетрадей (лучшую), Алла Яковлевна взяла на проверку, да так мне больше и не вернула, сказав: «Я должна оставить её себе на память». Иногда мне казалось, что Алла Яковлевна неравнодушна ко мне, как к юноше (мне было около 16 лет). Но в то время я был ещё очень скромным и не в меру застенчивым. Застенчивость, своего внутреннего врага, мешавшего всю жизнь, мне всё же удалось преодолеть, примерно, годам к пятидесяти своей жизни. Что касается скромности, то с нею я расстался значи-и-ительно раньше, – став подготом. Мы, ученики, часто беседовали с Аллой Яковлевной на всевозможные волнующие молодого человека темы, особенно такие, которые негласно считались как бы закрытыми, например, что же такое любовь? Алла Яковлевна всегда была очень корректной, при разговоре прямо смотрела в глаза, а если собеседник не отвечал ей тем же, то она всё равно пыталась заглянуть в его глаза. Такой вот простой и умной, доверительной и ласковой она и запомнилась мне на всю жизнь. 31-ая школа для меня знаменательна ещё и тем, что в ней я познакомился с будущим закадычным другом юности Виктором Бочаровым, который учился классом старше меня. Сдружились мы, встретившись в подготии, но об этом позже. Положительным моментом оказался тот факт, что мне с немецкого пришлось быстро переключаться на английский язык. Учительница Тропникова Л.И. была толковая и помогла мне в течение первой четверти изучить курс пятого класса и догнать класс. English мне показался, с одной стороны, несколько странным и трудным (пишем одно, читаем то же самое, но как совсем другое), а с другой – я почувствовал к нему какую-то тягу. Именно во Владивостоке познакомился я с семьёй Никифоровых, имевшей в судьбе моей определённое значение. Глава семьи, редкостной доброты и души человек, Сергей Павлович, в чине майора интендантской службы служил начфином в подготовительном училище. Его дочь, Нина Сергеевна, работала на абонементе библиотеки под началом брата моего Александра. Вот там-то они и сошлись, как говорится, и в феврале 1945 года поженились. Впервые в жизни я был на свадьбе, пил вино, очень мало, но всё же слегка захмелел. Брат очень беспокоился, что бы я не перебрал, но напрасно. На свадьбе я познакомился со всеми членами семьи. Сын Виктор на 1,5 года старше меня (это по возрасту, а по развитию и, если можно так выразиться применительно к 15 – 16-ти летним юнцам, по солидности, с ним я не шёл ни в какое сравнение, – мальчишка-молчун, да и только). Виктор же в то время был студентом морского рыбопромыслового техникума. Впоследствии он стал кадровым военморспециалистом – электронщиком, закончив Кронштадское военно-морское техническое училище, а затем заочно, уже в Севастополе – институт, и наши пути жизненные перехлестнулись в Севастополе, где он, так же, как и я, и закончил военную службу, но в чине полковника. Крепко запомнилась мне бабушка Виктора и Нины Сергеевны по матери, Марья Михайловна, худенькая, старенькая, всегда очень чистенькая, она весьма благоволила ко мне и, обращаясь, говаривала так звучно – сладко: «Кстантин». Забавно было очень и отрадно. С Ниной Сергеевной, да и с Виктором мы ещё встретимся. Так прошёл год, а затем и второй. Наш новый дирижёр старший лейтенант Силкин Г.В. (с консерваторской подготовкой и уже некоторым опытом службы), ознакомившись с моими занятиями на флейте, тоже завёл разговор о подготовке к поступлению в консерваторию. Надо сказать, занимался я добросовестно. Ежедневно не менее часа проигрывал во всех возможных, мыслимых и немыслимых вариантах многочисленные гаммы и арпеджио, отрабатывая качество звука, технику аппликатуры и амбушюра, а ведь это только подготовка к занятиям. Чтобы подготовиться к консерватории, нужно было, кроме средней школы, постичь многие специальные музыкальные дисциплины (обычно им обучают в детских музыкальных школах в течение 6 –7 лет систематических занятий). Не говоря уже об игре на флейте. История и теория музыки, навыки пения и игры на рояле и многое-многое другое за сравнительно короткий срок. Главное же, мне не хотелось стать военным дирижёром. Я вновь отказался. Возможно, это было моей большой ошибкой. С другой стороны, смог бы я поступить и учиться в консерватории, не имея ярко выраженных музыкальных способностей, хорошего музыкального слуха? Так что, возможно, я был вполне прав, отказавшись. Во Владивостоке дружно жил с одним из воспитанников, Мишей Пискуновым, который был на год старше классом, а по возрасту – на два года, «сидел» он на кларнете, давался который ему с большим трудом. В течение одного учебного года мы вместе ездили на занятия в городскую вечернюю музыкальную школу. Любили заниматься вместе и «дома», дуэтом играли простенькие вещички, имевшиеся в небогатой нотной литературе оркестра. Другие воспитанники были много моложе нас, поэтому о них ничего не помню. Несмотря на различия в возрасте, жили мы одной командой и никогда не ссорились. Владивосток – первый в моей жизни большой город, первое знакомство с азами музыки и начало занятий на флейте, первое знакомство с роялем, а также первое знакомство с драматическим театром, первое свидание с морем, первая встреча с казарменной жизнью. Здесь же – долгожданное известие об окончании войны. В июле 1945 года курсантов ВВМПУ вывезли на летнюю морскую практику на остров Русский, одно из главных мест базирования Тихоокеанского флота. Вместе с курсантами выехала туда же музкоманда, естественно, и мы, воспитанники, с нею. На берегу бухты Рында был разбит палаточный город, прямо на опушке леса. Места очень красивые, живописные. Одна беда – очень много ядовитых змей, а также клещ, вызывающий воспаление головного мозга – энцефалит. Так что, углубляться в лес было запрещено. Зато, какое там море! Это просто сказка. Вода прозрачная, чистая и очень-очень солёная. Не успеешь выйти из воды, как всё тело покрывается солью. Множество крабов, морских звёзд, рыбы и чилимов (местное название креветок) – излюбленного нашего лакомства. Такое красивое море в сочетании с живописным побережьем впоследствии в жизни мне удалось повстречать только в Югославии (Адриатика, Дубровник, Которский залив, город Тиват). С началом войны с Японией морская практика была свёрнута, нас возвратили восвояси, и теперь мы занимались ремонтом служебных помещений, по тревоге бегали в находившуюся рядом расщелину, называвшуюся бомбоубежищем. Запомнился и поразил один происшедший на моих глазах эпизод. Сапёрная сопка, на которой располагались корпуса училища, находилась в непосредственном соседстве с нефтегаванью. Однажды не без ужаса мы наблюдали, как подбитый японский самолёт пытался с небольшой высоты спикировать на самый большой стоявший под заправкой танкер. К счастью, он промахнулся, задел за одну из мачт и рухнул в воду у борта танкера. Взрыва не последовало, но столб пламени и дыма поднялся довольно высоко. Впоследствии говорили, что лётчика удалось спасти и взять в плен; говорили также, что это был камикадзе. В 1946 году я окончил семь классов, что соответствовало нынешним восьми, то есть получил неполное среднее образование. Капельмейстер Силкин поведал, что теперь мне нужно выбирать: либо бросить школу и вплотную заняться музыкой, чтобы по достижении призывного возраста перейти на срочную службу в оркестре, либо, увы, мы должны расстаться, поскольку, мол, такое указание поступило свыше. Обязательным образованием тогда было семилетнее. Мне хотелось учиться дальше (ещё мечтал об институте киноинженеров). Посоветовавшись с братом, я решил поступить в подготовительное училище, но не во Владивостоке, а в Ленинграде. Почему именно туда? Во-первых, я – сын равнины, и Владивостокские улицы типа Лазо (по которым почти буквально надо было лазать, а не ходить) мне не нравились. Во-вторых, мне не нравился климат Владивостока, особенно жаркое душное лето с непрекращающимися дождями-ливнями, за исключением замечательной и продолжительной тёплой, солнечной осени. В-третьих, и это главное, мне не по душе слишком далёкая оторванность от семьи, да и вообще, «от Европы», как тогда там говорили. Но мне очень нравился (пока заочно) Ленинград. Решение было принято, мне предоставили отпуск для поступления в Ленинградское ВМПУ, выдали проездные, продпаёк и продаттестат. Выехать из Владивостока в Москву в то время было невероятно трудно, даже имея блат. Билет удалось «достать» только на 18 июля и только до Новосибирска, а дальше мне удалось попасть в общий вагон без места. Целых пять суток я не спал, если не считать сидения, как на насесте, в топливном отделении вагона, на ступеньках металлической стремянки. В конце июля прибыл в Москву, впервые в жизни. Город я изучил заочно (по картам, планам, схемам) и прекрасно ориентировался в нём. Добрался до Красной площади, нашёл и улицу Софийскую, что напротив Кремлёвской набережной, отыскал свою тётю Струнову Зою Павловну. Она жила в малюсенькой комнатке в коммунальной квартире типа гостиницы. Беспробудно проспал на столе почти двое суток подряд, так что тётя начала уже беспокоиться, всё ли со мной хорошо. Снова возникла проблема с билетами: в Ленинград попасть никак не удавалось, очереди были тысячные. Прожив три дня, я решил поехать в Мончегорск Мурманской области, где в то время оказалась моя семья, а уже оттуда – в Ленинград. 3 августа 1946 года я приехал в Мончегорск, радости не было конца. Очень не хотелось уезжать «в люди», да пришлось. Приехал в Ленинград, прибыл в ЛВМПУ и там узнал, что приём окончен, я сильно опоздал. Было у меня на случай письмо от брата к адмиралу Крупскому. Разыскал его квартиру на Васильевском острове (13-я Линия, д.46, кв.51), позвонил. Вышла женщина, прислуга, и сказала, что адмирала нет, он в отпуске и приедет нескоро. Мне ничего не оставалось, как дать от ворот поворот и вернуться в Мончегорск. Отпуск подошёл к концу, надо было принимать решение ехать ли опять во Владивосток (со всеми вытекающими последствиями) или оставаться дома. Мама и сёстры советовали остаться, «если это возможно», сам я тоже не хотел возвращаться. К тому же во время поездных скитаний я утерял воинское требование на обратный путь или у меня его выкрали, ведь утащили же лучшую часть моего продпайка из вещмешка в вагоне. А билет стоил недёшево. Мончегорск – Владивосток это четвёртая часть длины экватора. Я принял решение: остаться в Мончегорске с тем, чтобы на следующий год вновь попытаться поступить в ЛВМПУ.
Мончегорск. Временное воссоединение с семьёй
Мончегорск – это Ленинград в миниатюре, как тогда говаривали, поскольку очень большой процент его жителей, интеллигенция, были ленинградцами, да и внешним обликом, архитектурой, планировкой он чем-то напоминал славный старший город, а главное – высокой внутренней культурой его жителей. 3-я средняя школа (восьмой класс) встретила меня сурово и поразила непомерной строгостью и небывало высокими требованиями к ученикам. Пришёл я отличником, но мне было трудно удержаться, чтобы быть хотя бы «хорошистом». Впервые пришлось очень много заниматься дома, готовиться к урокам. Особенной строгостью и требовательностью славилась учительница истории Анастасия Фёдоровна Трубникова. На её уроке никто и пошевельнуться не смел, а самой высокой оценкой за ответ у неё была четвёрка. Материал преподносила она всегда громким голосом, тоном, не терпящим возражений, в очень быстром темпе и совсем не по учебнику. В каком-то страхе слушал я её и никак не мог поймать ту красную ниточку, за которую можно было бы ухватиться и следить за мыслью и ходом её рассуждений. Конечно, говорила она правильные, нужные, умные вещи, но ученики усваивали их плохо. Материал отвечали, как это было принято, «по учебнику». Анастасия Фёдоровна негодовала, ставила тройки и двойки; записывать её «лекции» большинство из нас не умело и не успевало, а в силу вышеизложенного и не запоминало. Пятёрки были лишь у единиц, воспринимались, как праздничный подарок. Помню, я сделал в классе на уроке, в порядке изложения нового материала вместо учителя, доклад о Ледовом побоище, к которому готовился две недели, и вот тогда только единственный раз получил пятёрку, так как сумел найти хороший дополнительный материал и доклад построил в интересной форме, так что слушали меня очень внимательно и даже задавали вопросы. Очень много времени и сил отдавалось математике. Екатерина Григорьевна Губская была тоже очень требовательной, задавала непосильные задания на дом, но она была хоть и строгим, но очень добрым, задушевным человеком. В данном конкретном случае сказались проблемы, связанные с моей математической подготовкой во Владивостокской школе, где я был всегда на коне, хотя занимался самостоятельно очень мало. Чтобы подтянуться, я постановил себе: решить все имеющиеся в учебнике задачи и примеры того или другого раздела, темы. Конечно, это дало хороший результат, хотя и отняло много времени. В конце года по всем видам математики у меня уже были, в основном, пятёрки. Очень поощряла Екатерина Григорьевна решение задач не обычными, стандартными способами, а собственными, индивидуальными, а особенно – наиболее простыми, целесообразными и рациональными. Русский язык и литература шли, как по маслу, хотя приходилось очень много читать и запоминать. Особенно всем нам нравилась учительница географии Зоя Ивановна Васькина (затем, в замужестве – Боборик). Простая, душевная, мягкая, очень женственная и очень отзывчивая (полная противоположность Трубниковой). Она напоминала мне А.Я. Теряеву, но была уже в возрасте, а потому ещё добрей. Очень запомнился преподаватель черчения, инженер, Андрей Павлович Лютов, и не по предмету, а как человек – грамотный, интеллигентный. Часто он читал общешкольные лекции и проводил беседы о правилах поведения человека в обществе, об этике и эстетике, о взаимоотношениях мужчины и женщины. На его лекции и беседы я ходил с большим удовольствием, чем в кино и, мне кажется, сумел усвоить многое, за что Андрею Павловичу огромное спасибо. Выдающейся в своём роде была учительница немецкого языка (снова немецкого!) Екатерина Николаевна Петрова, чистокровная немка. Была она уже очень пожилой, методически грамотной и преподавала совсем не по учебнику. Её правильно поставленное произношение, немецкая речь напоминали нам журчание ручейка в прохладе леса знойного, жаркого дня, в то время как мы только гавкали и тявкали, но всё она снисходительно терпела. Ко мне она относилась очень хорошо, много занималась дополнительно, после уроков, бесплатно и к концу первой четверти я догнал класс. Всегда Екатерина Николаевна хвалила меня перед классом, ставила четвёрки и говорила, что нужно бы ставить 5, но поскольку 6 и 7 классы я как бы пропустил, делать этого она не может. Вспоминается и такое. Бывало, мямлит-мямлит ученик, она послушает-послушает и скажет с очень оригинальным акцентом, передать который возможно, разве только звуком: «Садись, деточка, – два». Особенно интересным было произнесение последнего слова, – звонко, немного в нос. Полутораметровый «деточка» не то что садился, но просто падал, рухнув от изумления, ведь он рассчитывал получить, как минимум, тройку. А меня приводила в восторг и изумление вся эта нехитрая её педагогическая хватка. Не обошлось и в 3-й школе без «червоточинки». Химию преподавала Попова П.И. – нудная, необразованная женщина, внешним видом напоминавшая монашку (не монахиню, а именно монашку), очень злая, мстительная. Речь её с явным деревенским выговором, вечно неправильно поставленным ударением в словах-терминах. Орфографическим словарём я ей в нос не тыкал, а при ответах термины называл правильно, она злилась, но меньше четвёрки мне не ставила, что меня вполне устраивало. Так прошёл год мончегорского периода моей жизни. Школа дала мне очень многое, и не только прочные знания. Впервые я задумался над тем, что для того, чтобы много знать и знать хорошо, нужно много и упорно работать самостоятельно. Понял, что быть отличником с кондачка – нестоящее дело. 3-я школа сыграла огромную роль в моей дальнейшей судьбе и в моей личной жизни. Именно здесь я познакомился с одноклассницей Анисимовой Тоней, моей будущей женой, единственной на всю жизнь любовью и женщиной.
Ленинград. Подготия
Приют принца Ольденбургского
И вот снова Ленинград. На этот раз надолго. Успешно сдал вступительные экзамены на второй курс. На устных экзаменах каждый раз кто-то из членов приёмной комиссии после моего ответа спрашивал, откуда я прибыл и в какой школе учился. Мне было приятно ответить, что из школы № 3 города Мончегорска. Потекли уныло-однообразные дни, недели, месяцы учёбы и жизни, «притирка» к новым преподавателям, освоение окружающей среды, «присматривание» друг к другу.
Ленинград, ЛВМПУ, 7-я рота, 1948 год. Комсомольское бюро роты заслушивает курсанта Сендика Вадима о его подготовке к экзаменам за второй курс. Члены бюро слева направо: Саша Можайский, Витя Бочаров, Валя Семёнов, Костя Селигерский, Владилен Груздев
Дом номер три на улице Приютской был задуман и построен принцем Ольденбургским, как приют, отчего и название улицы произошло. Это огромное, нет, – громадное по занимаемой площади здание с контурами прямоугольника, приближающегося к квадрату, по протяжённости занимает весь квартал, от проспекта Лермонтова до улицы Дровяной. Внутри этого громадного прямоугольника были, как одно целое со всем зданием, поперечные “линии” – помещения. Поэтому, кроме парадного двора, куда выходил фасад здания, было ещё четыре внутренних, сравнительно небольших дворика. Часть из них использовалась в служебных вспомогательных целях (камбузный, продовольственный, складской), но были и “глухие” – там ничего и никогда не было, ничего не росло, кроме жалкой травки, входы в них всегда были заперты. Такое расположение здания обеспечивало достаточно хорошую естественную освещённость помещений, компактность расположения и экономию площади. Первоначально здание было трёхэтажным. Во время войны оно очень пострадало и при восстановлении был достроен ещё один этаж. Я не видел, насколько здание было разрушено, так как к лету 1947 года оно было полностью восстановлено. Очень толстые стены были весьма прочными и войну выдержали. Первый этаж занимали парадный вестибюль с роскошной широкой лестницей. обширная столовая и камбуз, продовольственные и другие многочисленные склады и вспомогательные помещения. Большая часть из них (а затем и все) впоследствии были переоборудованы под кабинеты торпедного, минного, артиллерийского оружия и лаборатории. В вестибюле было установлено Знамя училища и у него почётный пост номер 1 караула. На втором этаже фасадную часть занимали апартаменты начальника училища и его заместителей, остальные помещения второго – четвертого этажей использовались, как классные и служебные помещения и кабинеты. Там же располагались огромный спортивный зал в два этажа (впоследствии верхняя его часть была отделена и стала аудиторией кафедры ОМЛ), библиотека, спальные помещения (кубрики), аудитории. Впоследствии спальные помещения были переведены в отдельное построенное здание с фасадом на улицу Дровяную, а освободившиеся места заняты новыми кабинетами, лабораториями, музеем, классными комнатами. Широченные коридоры были, как правило, сквозными, но были и исключения, – входы и выходы в конце рабочего дня перекрывались там, где курсантам делать было нечего. В дополнение к прямоугольнику примыкала пристройка, на втором – третьем этажах которой размещался большой актовый зал, называемый клубом, с прекрасным фойе, где стоял рояль и проводились уроки танцев, а на первом – ещё один, второй спортзал, на третьем и четвёртом – аудитории (математика, теоретическая механика), киноаппаратная, служебные помещения. К северо-восточной части примыкал «аппендикс» – комплекс помещений, как продолжение основного здания, вклинившийся в соседний жилой дом, с четырьмя аудиториями (сначала классные комнаты, затем – торпедные кабинеты). Я до сих пор не перестаю удивляться, насколько умно и продуманно было сделано это великолепное здание. В течение рабочего дня выходить из него не было необходимости. На первом этаже под «аппендиксом» размещалась своя типография, вход туда был только со стороны 12-й Красноармейской улицы. По соседству с типографией были мастерские, где нас обучали на уроках труда слесарному и иному делу. Типография печатала училищную газету «За учёбу», один экземпляр у меня сохранился. Пол в главном здании был паркетный, старый, но прочный, всегда тёмно-серо-грязноватого цвета, сколько б его ни холили. Стены покрывались масляной краской почему-то весьма тёмных оттенков. Один раз в неделю пол тщательно мыли щётками, иногда с горячей водой. После высыхания его намазывали жидкой мастикой с красно-бордовой краской. Когда мастика подсыхала, пол натирали специальными короткошёрстными ножными щётками. В классах это делали дежурные, в коридорах – дневальные ночью. В спальнях (кубриках) и других помещениях – общими усилиями во время большой приборки. Протиралась пыль, драились гальюны, но специфический запах в них всё же сохранялся. Работу принимали сначала младшие командиры, а после устранения замечаний – командир роты. Несмотря на все наши потуги, училище выглядело как-то мрачновато. Отдельно стояло небольшое зданьице медсанчасти. Когда построили новое здание, где размещалась административно-хозяйственная часть (фасадом на 12-ю Красноармейскую улицу), его снесли, а на проспекте Лермонтова появилось новое трёхэтажное здание – медсанчасть с лазаретом, столовая офицерского состава, комнаты для свидания с родственниками и другие. Большой асфальтированный парадный двор ограничивался стеной длиннющего тира, принадлежавшего училищу. Парадный двор был местом общих училищных построений и разного рода мероприятий, в том числе строевых занятий. Училище имело где-то на селе своё подсобное хозяйство. Бывать там мне не довелось, а вот капусту шинковать приходилось – её привозили в училище. И, наконец, училище имело свою шлюпочную базу в живописной протоке на Кировских островах. Возможно, было и ещё что-то, чего знать мне не пришлось. В общем, хозяйство огромнейшее, управлять им было хлопотно.
«Товарищ преподаватель!»…
Преподавателем русского языка и литературы на втором курсе сначала была Якимюк, затем – «шансонетка» Баланюк, как прозвали её в нашем народе, и этим всё сказано: ни плохого, ни хорошего. А вот на третьем курсе нам крупно повезло – пришёл грамотный, образованный, корректный, по-молодецки подтянутый, с приятной внешностью, с «булганинской» бородкой сравнительно немолодой человек, майор Полуботко Сергей Васильевич, высшего класса специалист своего дела. Его уроки были настоящим праздником для меня, да и для абсолютного большинства в классе. Именно он научил нас не только прочитывать, но и перерабатывать прочитанное, размышлять над содержанием, искать в том или ином произведении «изюминку» (так называемое идейное содержание). Искренне, неподдельно восхищаясь богатством и красотами русской литературы, неисчерпаемыми возможностями, разнообразием и мощью русского языка, он ненавязчиво, исподволь приучил и нас обнаруживать эти и другие непреходящие свойства и качества родной речи.
ЛВМПУ, 20 мая 1949 года. Пишем сочинение на аттестат зрелости под наблюдением преподавателя литературы С.В. Полуботко
К сожалению, сравнительно мало довелось нам общаться с этим замечательным человеком – всего один учебный год, так как изучение русского языка и литературы на этом навсегда заканчивалось. Впоследствии, читая ту или иную книгу, не раз вспоминал я с благодарностью Сергея Васильевича, размышляя над прочитанным и обнаруживая многочисленные жемчужины и перлы языка и литературы, переваривая содержание и восхищаясь им. «Проглатывать» содержание книги от корки до корки за один - два присеста я не могу и сейчас. Вспоминается такой случай. Как-то ближе к весне, весенней сессии, когда у всех уже накопилась некоторая усталость от занятий, брат дал мне книгу Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» (в те времена книга находилась в библиотеках в так называемом «спецфонде» и на руки не выдавалась). Узнали об этом друзья, а затем и весь класс, стали уговаривать меня читать книгу вслух. Мы закрывали дверь в класс «на швабру» и кто-нибудь с хорошей дикцией и приятным тембром с выражением читал вслух. Разумеется, хохот стоял невообразимый, к нашему классу стали прислушиваться, а когда стучали в дверь, класс мгновенно переходил на «кропотливую самостоятельную работу». Так продолжалось несколько дней, прочитали всю книгу, и никто из начальства об этом так и не узнал. А ведь рисковал…Но об этом как-то и не думал. Чтение таких книг вслух имеет несравненно много преимуществ и намного больше позволяет получить впечатлений и удовольствия от прочитанного. Вспомнилось военное детство с керосиновой лампой, а то и с масляной «коптилкой»… С преподавателем математики нам также крупно повезло – им был Игорь …ич Родионов. Не принято было курсанту знать имя и отчество учителя. Он был для нас – «товарищ преподаватель» и только. А имя запомнилось, потому что расписывался он в классном журнале сокращённо – «Ирод…». Поэтому многие «архаровцы» его так и окрестили (незаслуженно). Аккуратность, педантичность в хорошем смысле этого слова, растолковывание предмета до мельчайших подробностей (некоторым последнее не нравилось) были главными чертами его методики. Всё-всё, абсолютно всё, что в ходе урока им тщательно и красиво разноцветными мелками было начерчено, нарисовано, написано и подчёркнуто на доске, копировалось нами в свои тетрадки. Учебники были не нужны, зачастую они только портили картину темы урока. Да и «учить» теоретическую часть его предмета не было необходимости, – всё постигалось и хорошо запоминалось на уроке, и мы «дома» только решали примеры, задачи, упражнения. Классная доска выглядела настолько красиво, что дежурному перед следующим уроком стирать приходилось с большим сожалением. Классный был преподаватель! До сих пор помню, с каким артистизмом он выкладывал на доске многочисленные тригонометрические превращения и преобразования, а многим теоремам и формулам присваивал свои собственные характерные, запоминающиеся названия. Например, «теорема о двух милиционерах», выражение «два се(и)нокоса», «Пифагоровы штаны на все стороны равны» и тому подобное. Физику вёл Слепак. Ни имени, ни отчества мы не знали. Думаю, что они звучали далеко не по-славянски, но может быть и ошибаюсь. Про Слепака ходили живые легенды. Табуны курсантов вечно толпились у него в прекрасно оборудованном кабинете-лаборатории. Нет, нет, не из-за любви к Слепаку или его предмету, – двоечники, бывало, по несколько раз «пересдавали» контрольные работы. Предмет Слепак вёл отлично, понятно, всегда с многочисленными опытами, приборами, лабораторными работами. Он очень хотел, чтобы и мы его предмет знали хорошо, а потому был высоко- и много-требовательным педагогом. Забегая вперёд, должен сказать, что и высшую физику на 1 и 2-м курсах высшего училища преподавал он же и с не меньшим успехом. Химию преподавал некто Капитонов, мастер своего дела, с многочисленными разрешёнными, а иногда и нет, опытами. Устраивал маленькие взрывы, жёг тротиловую шашку и бросал её на несколько метров в кабинете. В общем, приучал зря не бояться взрывчатых веществ, но всегда обращаться с ними на «Вы». Хороший был учитель. Впоследствии он вёл предмет с длинным названием «Химическое оружие и средства защиты от него». Историю преподавала Клавдия Васильевна Прохорова, в летах, опытная, беззаветно преданная своему предмету и идеям коммунизма… Высокоидейная и очень мягкая, добрая женщина. Её недостатком мы считали тот факт, что она всегда носила парик, но так, что это было очень заметно. Видимо, под париком скрывался какой-то дефект. Скорей всего, приобретённые на войне шрамы. Из-за всепроникающей идейности и патриотизма Клавдия Васильевна получила прозвище «Таня – коммунистка». Почему Таня? Это откуда-то из литературы, отражавшей период гражданской войны. К занятиям Клавдия Васильевна всегда готовилась тщательно, использовала приготовленную наглядность. Очень любила зачитывать цитаты из художественной литературы и исторических документов-подлинников. Где она их брала, откуда «доставала»? Цитаты и высказывания выдающихся деятелей были занесены на отдельных карточках и размещены в конвертах. Использовала она их очень умело, как бы незаметно и естественно вставляя в речь. Материал она знала исключительно хорошо и доподлинно (мы это проверяли), а от нас требовала запомнить только самое главное. Безукоризненно знать весь материал от Древнего мира до Новейшей истории было просто невозможно, и она, отлично понимая это, была, особенно на экзаменах, очень демократичной. Позволю себе небольшой мелкий штрих. В самом конце учебного года, перед предстоящим отпуском, я попросил дать мне список художественной литературы, которую нужно будет прочитать в следующем учебном году применительно к курсу истории в 10-м классе. Клавдия Васильевна сказала, что она подумает и пришлёт мне письмо домой в Мончегорск, и взяла мой адрес. Дней через десять от начала отпуска, сам того не ожидая, я получил её письмо с обширным рекомендуемым списком. Невольно задаёшься вопросом, а стал бы сейчас кто-либо из школьных преподавателей поступать так? Думаю, что нет. Из преподавателей тех лет запомнился мне один молодой человек, студент философского факультета Ленинградского государственного университета Иванов Игорь Петрович. Он преподавал нам курс формальной логики и был большим умницей (умником, как сейчас говорят). Его уроки были для нас подлинной сенсацией, каждый раз он открывал нам нечто новое, необычное и в то же время такое убедительное и правдивое. «Моя задача, – говорил Игорь Петрович (ему на вскидку было лет 26 – 28), – научить вас мыслить». Полагаю, что во многом ему это удалось, хотя курс был очень короткий – всего полгода. Кстати, научить нас мыслить желал и С.В. Полуботко на уроках литературы. Послушаешь меня и подумаешь, что все предметы (дисциплины) и ведущие их преподаватели были уж такими хорошими и любимыми. Ан, нет, бывали и «не любимчики». Всем нам и мне, в том числе, очень не нравился курс «Основы дарвинизма». Был он каким-то искусственно притянутым, отчасти заумным и потому не всегда понятным. Было видно, что творцы этого курса сами в нём по-настоящему не разобрались. Да и время тогда было такое, что одно превозносилось, другое клеймилось и нам, пацанам, трудно было разобраться, кто прав, кто не прав. Курс вела огромная, несимпатичная немолодая женщина, прозванная нами «Тётя Лошадь», по фамилии Паршина. Очень трудным для меня и нелюбимым предметом была физкультура, отчасти потому, что ранее я никогда ею не занимался, (школы не были подготовлены), за исключением восьмого класса в Мончегорске. Но и там предмет не был очень-то уж серьёзным. Здесь же разом вдруг появились: перекладина, брусья, конь, кольца, канат, вольные упражнения, элементы акробатики, бокс, лыжи, плавание и так далее. Ко всему этому я просто был не подготовлен, а физически был слабоват, мягко выражаясь. С каким трудом, с какими потугами и переживаниями мне удавалось получать тройки, – это только я знаю. Помню, никак я не мог выполнить стойку на голове, хоть разбейся. И вот на экзамене вытаскиваю билет, и одним из элементов я должен выполнить именно эту стойку. Ребята ахнули – не миновать мне двойки. Не знаю как, но мне удалось собраться, и в первый и последний раз в жизни я сумел сделать стойку на голове! По-моему, были аплодисменты… Или ещё один штрих (из многих). Когда был бокс, мы вечно на увольнение ходили с синяками на лице. Перед экзаменом мы договорились с напарником (им был мой дружок Женька Корнев) не бить сильно друг друга, а только обозначать технику. И вот как-то случайно я сделал Женьке больно. Он рассвирепел – я нарушил договорённость, и тут же уложил меня в нокдаун. Мне хватило сил, ума и воли тут же вскочить и, шатаясь, броситься на Женьку в атаку. Преподаватель был поражён, остановил «драку», сказав мне: «Ставлю тебе тройку за волю к победе». А мне только это и нужно было! В 1947-м году в подготовительном училище я вступил в комсомол. Вступать мне не очень хотелось (и даже совсем не хотелось), но в то время не комсомольцев было мало, и на них смотрели, как Советская власть на кулака, считали единоличниками, индивидуалистами. В дальнейшем пришлось много времени тратить на общественную работу, так как избирался членом бюро роты, а два или три года тянул лямку секретаря классной комсомольской организации. Ох, и «наелся» же я этой комсомольской работой – на всю оставшуюся жизнь. Некоторые наши ребята, наиболее целеустремлённые и проницательные, ещё на втором – третьем курсе стали вступать в партию. Я считал это несерьёзным подходом и даже кощунством, искренне полагая, что для вступления в партию нужно сначала заиметь кое-какие заслуги, а даже очень хорошая учёба и дисциплина - какая же это заслуга? Это просто святая обязанность. Забегая вперёд, должен сказать, что на флоте, будучи комсомольцем, практически работой этой не занимался, ограничивался участием в общих мероприятиях.
О друзьях-товарищах
Настало время поговорить о друзьях-товарищах. В Мончегорске ни с кем близко не сходился, хотя со всеми уживался мирно. И вот Подготия, страна громадного числа самых разнообразных и невообразимых характеров, невероятных устремлений, пока что скрытых талантов. К тихоням я относился сдержанно и терпимо (в сущности, они ведь никому не мешали, кроме как забиякам и задирам). Шалопаев, бузотёров, драчунов и разгильдяев я не любил. Старался сближаться с людьми открытыми, простыми, скромными. В первый же день – встреча со старым знакомым. Ко мне подошёл Виктор Бочаров (я тоже хотел подойти к нему, но не решался). Виктор старше меня на год, был крепок, хорошо физически сложен и очень колоритен. Мы «опознались», как-то сразу стало веселее на душе. Впоследствии мы потянулись друг к другу и затем сдружились на долгие годы. У Виктора были замечательные родители. Отец его, Виктор Петрович, долго и много плавал в торговом флоте, был фанатиком военно-морского флота, вплотную интересовался его состоянием, имел много различной справочной литературы. Ко всему этому он был очень эрудированным и интеллигентным человеком, не говоря уже о доброте и душевности. Беседы с ним для меня стали необходимой потребностью и одним из самых сильных впечатлений юности. Мать Виктора, Татьяна Сергеевна, человек безграничной доброты, щедрости, задушевности и гостеприимства, очень любила своё чадо, а также и меня, считала меня своим вторым сыном. Любовью и уважением посильно платил и я. Была у Виктора бабушка, Антонина Михайловна, тоже замечательный человек. Она много рассказывала из старой жизни, а также из своей личной жизни и службы, как называла она свою работу в архиве. Интеллигентная, дружная, любящая семья Бочаровых оказала на меня громадное влияние и оставила неизгладимые впечатления.
Ленинград, ЛВМПУ, 1948 год. Виктор Бочаров стал мне другом на всю жизнь
Другими моими друзьями-приятелями вскоре стали Женя Корнев, Лёша Шмыгов, Игорь Пакальнис, Женя Вересов, Владик Груздев, Аркадий Павлов, Давид Масловский, Валерка Никитин и многие другие. Само собой разумеется, что с каждым из них у нас были разной степени близости дружеские и приятельские отношения, рассказать об этом невозможно. Первый год пребывания в Подготии подошёл к концу. Это был год плотного знакомства с Ленинградом. В увольнение я ходил не очень часто, а когда были кой какие гроши, чаще всего бывал в кинотеатрах или просто дефилировал по городу, знакомился с архитектурой и памятниками. Мне очень хотелось попасть в Мариинку на балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро» И вот мечта моя сбылась. До сих пор помню, что находился в каком-то зачарованном музыкой и танцами состоянии. Казалось, что я не в театре, а попал в какой-то волшебный сказочный мир, выходить из которого очень не хотелось. После «Лебединого озера» бывал и на других балетах, но такого сильного, яркого впечатления не получал. Про мои «балетные» похождения узнал наш одноклассник Гера Гойер, коренной ленинградец. Однажды мы разговорились, а он и говорит: «А почему бы тебе не сходить в оперу? Вот, например, для начала послушай «Травиату» Верди в Мариинке, я уверен, что тебе понравится». При первой же возможности я так и сделал. Достал очень хороший билет во втором ряду «царской» ложи (тогда она именовалась «Ложа Д», и билеты обычно туда не продавались). Так как в ложе оказалось всего человек пять зрителей, я сел в первом ряду. Было замечательно хорошо всё видно и слышно. Опера мне очень понравилась, я был в восторге и благодарил Г. Гойера за подсказку, так вплотную я приобщился и к живой опере. Забегая вперёд, хочу сказать, что в дальнейшем балет и опера оставались для меня наиболее желанными спектаклями, к ним я заранее готовился (во-первых, морально; во-вторых, старался почитать соответствующую литературу) и шёл в театр, как на большой праздник. Второй год пребывания в Ленинграде для меня не был столь грустным, так как в увольнение я стал ходить ровно столько, сколько было положено. И только изредка приходилось оставаться в училище, чтобы подготовиться к какому-либо мероприятию учебного процесса, если это не удавалось сделать по тем или иным причинам в течение рабочей недели. К этому надо ещё прибавить довольно частые наряды на дежурства, а также всевозможные карантины, угрозы наводнения и другие обстоятельства, из-за которых был вынужден оставаться в казарме.
Актовый зал ЛВМПУ 24 января 1949 года. Фотографирование после вручения переходящего приза третьей роте
Подошёл к концу второй учебный год, предстояли экзамены на аттестат зрелости. А их было более чем достаточно – целых 11 (по истории выставлялись две оценки сразу, так что можно считать -12). Было очень трудно выдержать режим, не потерять работоспособности, одинаково прилежно готовиться как к первым, так и особенно – к последним трём – четырём. Поскольку я числился среди отличников, то должен был, по мысли начальства, все экзамены сдать только на пятёрки. Конечно, приходилось нелегко. Иногда хотелось всё бросить, отдохнуть, почитать, просто полениться. В итоге я получил одну четвёрку – по геометрии с тригонометрией письменно. В решении задачи я не доказал какую-то деталь (кажется, что центры круга и вписанного в него равнобедренного треугольника совпадают) и принял её за аксиому, и это было зачтено, как ошибка. Итак, экзамены сданы, я получил аттестат зрелости с серебряной медалью и право выбора вуза (военного) и поступления в него без экзаменов. Всего медалистов из нашего выпуска было только одиннадцать из трёх с лишним сотен. Поговаривали, что городские власти ввели ограничения и не хотели отдавать училищу слишком много медалей, поскольку на них был установлен лимит. Не знаю, насколько это соответствовало действительности. Мне очень хотелось пойти в училище связи, но нашим начальством это было бы воспринято, как своего рода измена. Сработало чувство патриотизма и совести, и я остался в родном чудильнике, чтобы продолжать учёбу в Первом Балтийском Высшем Военно-Морском Училище. Перед отпуском предстояла летняя морская практика. Её мы проходили сначала на собственной шлюпочной базе училища где-то на острове в черте города, а затем плавали на парусной шхуне «Учёба», где была большая скученность и теснота, спали на подвесных койках. По сравнению с практикой на Черноморском флоте, как потом выяснилось, то были только цветочки. «Учёба» плавала в Финском заливе, по ночам стояла на швартовых у стенки. Утром физзарядка и бег по вантам. Мне никак не удавалось бежать быстро, ноги уставали и переставали слушаться, а сзади, снизу наседали на пятки рьяные сотоварищи. Помнится, как однажды, всегда не любивший меня туповатый Победаш, грубо обогнал меня, чуть не столкнув меня с вант. Поэтому в последующие разы я старался идти последним или всегда знать, кто идёт следом. Занятие это мне не нравилось, так как к нему был физически подготовлен недостаточно. Летние отпуска или каникулы я всегда проводил дома в семье у матери в Мончегорске, за исключением одного раза. Ходили за грибами, ягодами, просто на прогулки по городу и окрестностям. Носить форму я не хотел, чтобы не быть объектом пристального внимания окружающих, всегда надевал что-либо гражданское, что имелось у родственников.
Первое Балтийское высшее военно-морское училище
Новая система обучения
Сентябрь 1949 года. Снова занятия, теперь уже в вузе – Первом Балтийском высшем военно – морском училище. Помкомвзводами к нам назначали курсантов старшего курса. Они, в частности, отвечали за порядок в классе на самоподготовке и сидели за столом преподавателя лицом к классу. Наш помкомвзвод частенько любил ковырять в носу и грызть ногти. Если же он не делал этого, то постоянно кусал свои собственные губы – то нижнюю, то верхнюю. И всё это нам было очень неприятно видеть, даже противно. А потому он сразу же получил прозвище «папа – крыса». Почти все в классе его не любили или недолюбливали, в лучшем случае. Очень уж был какой-то въедливый и придирчивый по пустякам, частенько делал нам гадости с увольнением – вычёркивал из списка за малейшее подобие провинности, причём, самое обидное, делал это втихаря. Ну, да Бог с ним, – у других классов бывали и похлеще. Фамилию его я забыл, но потом вспомнил – Проскуряков Роберт, а недавно узнал, что ныне он в адмиралах… Кабинеты… Сколько ж их было!? Особенно много их появилось в короткий срок летом 1948 года, когда училище из подготовительного переросло в высшее. Взять, например, кабинеты материальной части торпедного оружия. Изучали мы современные торпеды, состоявшие тогда на вооружении флота, в том числе и новейшие из них (электрические, самонаводящиеся). Каждый образец был представлен в двух вариантах: – в целом виде (без БЗО), предназначенные для тренировок курсантов по выполнению проверок при приготовлении к выстрелу, и разрезные, чтобы можно было видеть внутреннее устройство. Кроме того, каждый из агрегатов, приборов, механизмов и устройств был представлен отдельно, также в двух вариантах: в целом виде для разборки-сборки и в разрезанном. Умом и руками преподавателей и лаборантов кафедры были созданы многочисленные и разнообразные чертежи, схемы, рисунки как каждого в отдельности агрегата, так и торпеды в целом. Всё было сделано для того, чтобы материал можно было усвоить быстро и легко, без особых на то усилий. Кроме того, имелись и типографские цветные плакаты, а также наглядные действующие схемы (работа неконтактного взрывателя, аппаратуры самонаведения). Очень хорошо оборудованы были штурманские кабинеты, кабинеты астрономии, радиотехники (с новейшими средствами связи, в том числе сверхбыстродействующей аппаратурой «Акула»), электротехнический кабинет. На кафедре управления подводной лодкой был установлен очень сложный и дорогостоящий прибор, создающий полную имитацию управления подводной лодкой в подводном положении на всех режимах движения. На кафедре боевого использования торпедного оружия было несколько тренажёров для отработки торпедных атак по надводным, подводным и береговым целям, с использованием новейших систем приборов управления торпедной стрельбой. Особую гордость училища представляли артиллерийские кабинеты с новейшим оборудованием, аналогичным тому, что имелось на вооружении крейсеров новейших проектов. Кабинеты на кафедре тактики позволяли проводить групповые упражнения и тренировки по двустороннему боевому соприкосновению. Жаль только, что не было лингвистических кабинетов, и занятия по английскому языку проводились по старинке, в обычных классных помещениях, так же, как и военно-морское искусство, военно-морская география. На кафедре ОМЛ лаборантами подбирался комплект книг – первоисточников по каждой семинарской теме; ими можно было пользоваться тут же, в аудитории или уносить на весь вечер самоподготовки. На всех кафедрах до конца самоподготовки, то есть, до 21 часа, находились дежурные преподаватели и лаборанты, всё было предоставлено к услугам курсантов – только приходи и постигай. Я предпочитал заниматься или в читальном зале библиотеки, или на кафедре ОМЛ, – там, где всегда соблюдалась строжайшая тишина. Во времена подготовки к экзаменам в классах было шумно, так как помкомвзводы уходили готовиться к своим экзаменам на свой курс. Библиотека училища была довольно обширной, с большим выбором как художественной, так и учебной литературы. Так как большинство военных дисциплин было засекречено, конспекты мы вели в рабочих секретных тетрадях, которые по-классно складывались в чемоданы и хранились в секретной библиотеке. Дежурный по классу был обязан своевременно, перед занятиями, получить их, раздать курсантам, а в конце самоподготовки собрать все тетради и сдать опечатанные чемоданы в секретную библиотеку. Там же под расписку выдавались и секретные наглядные пособия, подготовленные преподавателями к той или иной теме занятий. Так как на лекциях и занятиях я работал добросовестно, вёл полные конспекты, то во время самоподготовки обычно занимался немного и часть времени посвящал, например, чтению художественной литературы. Читал русских классиков, любил французскую литературу (Бальзак, Флобер). По протекции брата пользовался услугами библиотеки Центрального Дома работников искусств. Там я брал музыкальную литературу, познакомился с эпистолярным наследием П.И. Чайковского.
Серьёзные науки
Начались очень серьёзные занятия. Одной из самых любимых дисциплин стала высшая математика, особенно – дифференциальное и интегральное исчисления. Вёл её немолодой преподаватель, полковник Рыбаков, человек очень плотного сложения, слегка лысоватый, с очень благородным лицом. Он никогда даже не дотрагивался до своих конспектов и никогда, ни разу не ошибся, поражая нас выкладками и чудесными превращениями, незаурядной памятью и профессионализмом, изумительной красотой преобразований на огромнейшей классной доске.
1-е Балтийское ВВМУ, 17 января 1951 года. Наш класс фотографируется с преподавателями после успешной сдачи экзамена по высшей математике. Слева направо. Первый ряд: Валя Семёнов, капитан 3 ранга Золотарёв (политработник), начальник кафедры математики полковник Рыбаков, капитан-лейтенант Косов, капитан-лейтенант Сутырин, Эрик Рулле. Второй ряд: Толя Марков, Владилен Лаврентьев, Лёня Карасёв, Юра Григорьев, Костя Селигерский, Лёша Шмыгов, Виля Сазонов, Сергей Богатырёв, Виктор Поляк, Валера Абрамов. Третий ряд: Владилен Груздев, Женя Корнев, Игорь Пакальнис, Юра Квятковский, Толя Клементьев, Лёня Иванов, Валера Никитин, Толя Чистяков. Отсутствуют: Коля Попов, Жора Келлер, Валя Куцицкий, Гера Александров, Витя Гольденберг.
Задачи и упражнения, задаваемые «на дом», часто бывали настолько трудными, что оказывались лишь некоторым по зубам. Мои тетрадки, лекционные и для выполнения домашних заданий, пользовались успехом и частенько ходили по рукам. Но бывали случаи, когда и я обращался за помощью к Игорю Пакальнису («доктор Пак» – его почётное звание в классе). А вот аналитическая геометрия осталась у меня в памяти как некое тёмное пятно, а вёл её совсем другой по всем параметрам преподаватель (возможно, поэтому и осталось у меня в памяти всего лишь пятно). Политические науки были у нас самыми главными, им отводилось большое место и, главное, очень много времени, как на лекциях, практических занятиях, семинарах, так и во время подготовки на самостоятельных занятиях. Нужно было очень много прочитать и усвоить, законспектировать из первоисточников марксизма-ленинизма. Основы марксизма-ленинизма, политэкономия капитализма и социализма, диалектический материализм, – всего этого было так много, что, думаю, не меньше половины учебного времени поглощали они в классе, не меньше половины уходило и на подготовку (у тех, кто сам конспектировал, а не переписывал готовые конспекты). Поэтому и преподавателей было много, одни читали лекции, другие вели семинары. Были среди них умные, грамотные, интересные люди, но больше было начётчиков и талмудистов, особенно по предмету партийно-политическая работа (в народе было замечено: ППР – это посидели, попи…ели, разошлись). Впрочем, я любил ППР – во время занятий можно было читать книги, писать письма и вообще заниматься чем угодно. Для меня это был почти единственный предмет с такими возможностями. Начальником кафедры ОМЛ был некто полковник Кукаев. Его лекции были особо неинтересными, нудными и пустыми. Их и записывать было невозможно. Хорошо, если за все два часа в тетрадке появится одна фраза. Только и слышишь ку да ка, ка да ку. Мне казалось, что кроме краткого курса истории ВКП(б) он ничего больше и не знал, да и тот интерпретировать, как надо, не мог. Очень нравился почти всем, а мне особенно, предмет под названием «Материальная часть торпедного оружия». Преподавал его капитан 2 ранга Глазунов. Нравился по двум причинам: первое, – очень интересно, второе, – дело опять-таки в «параметрах», но на этот раз совсем в других. Человек очень простой, безамбициозный, своё дело он не только отлично знал, но и умел его как следует преподнести и дать возможность нам не только усвоить, но и тщательно записать в свои рабочие тетрадки (учебника не было, вместо него – техническая документация, разобраться в которой требовалось немалое время). Всех своих курсантов он знал не только по фамилиям, но и по имени. Бывало, скажет так просто, тихо и душевно: «Ну, иди, Костя, покажи нам, как проверить машинный кран на притирку». Такое обращение не поощрялось начальством, но ты был от него без ума, старался сделать (показать, рассказать) всё как можно лучше – так, именно так, как учил тебя преподаватель. Как человека, капитана первого ранга Глазунова характеризует и такая деталь – многим своим курсантам он помогал разобраться в личной жизни и в службе, да и деньжата до получки частенько одалживал. Что говорить, к нему курсанты, слушатели относились не только как к отличному преподавателю, но и как к прекрасному человеку и наставнику. Интересным был курс торпедной стрельбы, но в разные годы вели его, мягко говоря, не слишком подготовленные в педагогике офицеры. Л.Я. Лонцих был не то что звездой среди них, но просто светилом. К сожалению, его лекции продолжались всего один семестр. Теория, как известно, должна сочетаться с практикой. Упражнения на тренажере по боевому использованию торпедного оружия, выполняемые курсантами, походили на какую-то сумбурную возню, в которой надо было более или менее своевременно выкрикнуть определенный набор команд. Кафедра БИТО не смогла мне помочь разобраться в существе торпедной атаки, её сущности. Постичь это мне пришлось самому, уже на флоте, когда анализировал и давал оценку торпедных стрельб, выполненных командирами подводных лодок.
435 класс с Леонардом Яковлевичем Лонцихом на кафедре БИТО в кабинете торпедной стрельбы после экзамена. Слева направо. Первый ряд: Веня Гущин, Саша Михайлов, Олег Дунаев, капитан 2 ранга Золотарёв (политработник), начальник кафедры капитан 1 ранга Лонцих Л. Я., Жора Беляков, Серёжа Гридчин, Владлен Лаврентьев. Второй ряд: Саша Кузнецов, Костя Селигерский, Игорь Пакальнис, Гена Кудинов, Володя Змеев, Юра Талызин, Энрико Ассер, Юра Реннике, Вилор Сазонов, Лёша Шмыгов. Третий ряд: Рольф Цатис, Владимир Енин, Серёжа Богатырёв, Вадим Силин, Володя Лебедько, Лео Сумкин, Валя Верещагин, Женя Корнев.
На госэкзамене по БИТО, атаку я попросту «завалил», а так как по теоретическим вопросам ответ мой был признан блестящим, госкомиссия разрешила мне сделать ещё одну попытку, но и её я завалил. Несмотря на это, ответ оценили на четвёрку, чему я был крайне удивлен, но отчасти и рад. По этой причине диплом с отличием ускользнул, но я нисколько не переживал. Курс «Приборы управления торпедной стрельбой» любили все. Тем более, что вёл его незаурядный преподаватель капитан 3 ранга Стоянов, вел очень умело и педагогично. Счётно-решающая система ТАС-Л2 «Трюм» тогда была новинкой, и полученные знания и навыки очень пригодились нашим выпускникам, проходившем службу на лодках 613 и 611 проектов. Одной из ярких дисциплин была мореходная астрономия. Мне нравились, как теоретическая часть, так и практическая. Кафедра отличалась повышенной требовательностью к курсантам, так как предмет считался одним из главных, особенно для штурманов. Задачи определения места корабля в море по звёздам и светилам решались вручную, по таблицам, арифметически с заключительной графической частью (так называемое «решение задач Сомнера»). Как-то кафедра устроила курсовой конкурс на лучшее решение таких задач, быстрое и правильное, точное. Одним из его победителей (в том числе и штурманов) оказался и я, чем очень гордился. А небо? Мы знали его, конечно, кто хотел знать, вдоль и поперёк, определяли названия светил по небольшому кусочку открывшегося от облаков неба – просвету. Во время летней морской практики каждый из нас должен был решить великое множество астрономических задач, причём материал исходных данных мы должны были набрать самостоятельно путём взятия серий высот светил (днем – по Солнцу, ночью – по звездам) с помощью секстана. Чтобы задачи были реальными, «решаемыми», нужно было на ходу корабля правильно набрать («накелать») в течение всей практики большое количество серий высот. Поскольку опыта пользования секстаном у нас почти не было, высоты брали с большими ошибками, а потому задачи не решались, не выходили и не могли быть засчитаны. Как известно, «голь на выдумки хитра». Немного поломав голову, я научился решать задачи Сомнера «обратным ходом», то есть используя конкретные навигационные данные, не выходя из штурманской рубки на мостик получал так необходимые достоверные высоты. Решение задач обратным ходом было делом более сложным и занимало много времени, зато надёжным. Итак, выход был найден. Иначе пришлось бы денно и нощно не выпускать из рук секстан и не сходить с мостика в течение всей практики. Я слышал, что некоторые ребята наши проделывали аналогичные штучки, но как это делали они, я не знал и своим опытом особенно не делился, так как мог лишиться предстоящего отпуска, если бы кафедра не засчитала выполненную мной работу. Впоследствии на выходах в море на подводных лодках в качестве флагманского специалиста мне частенько приходилось наблюдать штурмана с секстаном на мостике, и каждый раз при этом не без удовольствия вспоминал свой хитроумный ход и благодарил судьбу за то, что не пошел в штурмана. Много пришлось изучать разных наук, и обо всех не расскажешь, но мимо навигации не пройти. Собственно, так называлась кафедра, а наук специальных на ней множество, ими овладевали штурмана. Мы же, торпедисты-минёры, изучали только то самое главное, без чего нельзя стать морским офицером командного профиля. Дело нужное, но как-то так выходило, что большинство преподавателей меня не удовлетворяло, мне не нравились методики их преподавания, – то, как они преподносили материал. Исключением был, пожалуй, только капитан второго ранга Лебедев, простой, безамбициозный и толковый преподаватель. Главный результат обучения навигационным наукам – умение вести прокладку на морской карте, как в прибрежных районах со спецоборудованием, так и в море-океане, и всегда точно знать свое место в море. Дело это требовало, кроме знаний и навыков, точности, аккуратности, опрятности, даже почерк имел не последнее значение. А главное, чтобы быть профессионалом своего дела, его нужно любить, то есть относиться к нему с душой. Я же особой привязанности к штурманским наукам не питал. Поэтому, когда после второго курса в училище была произведена специализация, и мы могли добровольно выбрать одну их трех будущих профессий, я выбрал не штурманский факультет, как все мне прочили (и начальство и друзья), и не артиллерийский, а минно-торпедный. Больше всего меня раздражало, даже бесило, когда мне пеняли: – «Что же ты в штурмана не пошёл, ведь у тебя почерк хороший». Артиллерийские науки (материальная часть, баллистика, теория вероятности, правила стрельбы и многое другое) мы изучали долго и упорно (в течение первых двух лет), много и … зря. На флоте всё это не пригодилось, а для общего развития уж слишком много времени было отпущено и трудов затрачено. Науки-то, в общем, были интересными, но офицеры на кафедре были подобраны один к одному – высокие, здоровые, громкоговорящие и очень требовательные – фанатики своего дела, да и только. Может быть, поэтому артиллерию я недолюбливал с самого начала и даже имел «хвост» по пушке Б-13, ликвидировать который сумел лишь на четверку. Это стоило мне сталинской стипендии (по остальным принимавшимся во внимание дисциплинам и показателям были пятёрки). Честно говоря, никаких особых усилий, не то, что рвения, я не прикладывал, полагая, что таковым быть я не достоин, внутренне. Были и другие нелюбимые мной дисциплины, например, тактика ВМФ. Уж очень много времени уделялось этому предмету программой – 4-6 часов в неделю в течение всего периода обучения. С этим могут сравниться только основы марксизма-ленинизма. И ведь дело-то для офицера командного профиля нужное и необходимое, но уж слишком затеоретизировано. Получалось, что тактические расчеты согласно науке, – совсем другое, так как осуществить их было невозможно из-за недостатка сил и средств, из-за постоянной вечной нужды на флоте. Опыт войны в случаях успешных наших действий превозносился, о неудачах и провалах, а также об успешных действиях противника – ни гу-гу. Тактические науки, таким образом, были чем-то сказочным, как бы только предполагавшимся. Видимо поэтому, усваивал я их нехотя, плохо – не для себя, не для знаний, а лишь бы получить хорошую оценку. В подтверждение моих слов – суровая действительность на Средиземном море, когда в ходе настоящих боевых действий 5-ой эскадры ВМФ ставились заведомо невыполнимые задачи по поиску и обнаружению атомных американских и прочих подводных лодок. Имевшимися в распоряжении командира эскадры силами и средствами выполнить поставленную задачу теоретически можно было с вероятностью близкой к 0,03-0,05, а практически и того меньше. Не случайно поэтому достоверных обнаружений, по крайней мере, за время моей службы в штабе эскадры в качестве офицера противолодочной обороны с августа 1967 по октябрь 1969 года, было очень мало – считанные единицы. Были у нас и такие дисциплины, которые не нравились буквально всем. Это ранее упомянутая ППР – партийно-политическая работа (мы с иронией добавляли: …на селе), ОВП – общевойсковая подготовка, гидрометеорология (по курсантски – гидромуть), теоретическая механика. Правда, последняя некоторых курсантов, в том числе и меня, интересовала, как своего рода составная часть математики и физики. Преподаватель был нетребовательный, несколько отрешенный – читал себе и читал (без помощи конспектов), иногда даже сам запутывался в своих выкладках и преобразованиях на доске, в чем, правда, надо отдать ему должное, тут же сознавался и просил извинить за неподготовленность к лекции, что нас умиляло (то был гражданский преподаватель, не офицер). Когда пришло время подготовки к экзамену, я был поражён колоссальным объемом и сложностью материла, который предстояло выучить (именно выучить) за какие-то четыре дня, – я схватился за голову! Не теряя ни минуты, принялся за дело и успел одолеть этот крепкий орешек, но только для того, чтобы суметь сдать экзамен, а не запомнить материал на всю жизнь. Трудновато, ей-богу, было. Тогда же про себя, я решил – подобных ошибок больше не допускать. Может быть, кто-то спросит, а как же другие сумели сдать? – Сумели!! Сработала «система», применявшаяся многие годы особо инициативными курсантами, которые были доками в распознавании схемы расположения билетов на экзаменационном столе. Кратко суть в следующем. Если экзамен по данной дисциплине класс сдавал первым в этой сессии, билеты, как правило, раскладывались в порядке возрастания или убывания их номеров. Наблюдатели зорко следили за руками преподавателя, считая количество положенных на стол билетов в каждом ряду. Затем начиналась «пристрелка»: первая четвёрка экзаменующихся брала те билеты, на которые указывали наблюдатели – комбинаторы. Если номера билетов первой четверки совпадали с ожидавшимися, схема срабатывала. Все последующие могли взять «свой» билет, по которому они могли заранее подготовится. В первую четверку всегда входили более сильные. Я очень любил брать билет третьим или четвёртым, чтобы времени на подготовку к ответу было достаточно. Но это ещё не всё – ведь первым сдавать экзамен класс мог только один раз или два. Так вот, после сдачи экзамена, курсанты аккуратненько складывали свои билеты в стопку, а инициаторы-комбинаторы записывали их номера и передавали эти данные следующему сдающему классу, а от сдавшего класса получали данные для следующего своего экзамена. Надо признаться, что я, хотя и не принимал участия в этих играх, билет брал всегда по указанию. Так вот, теоретическая механика сыграла свою роль в моей жизни, преподав хороший урок легкомысленного отношения к предмету в течение всего курса. Запомнилось на всю жизнь. К общевойсковой подготовке все мы относились явно пренебрежительно с точки зрения «морских» офицеров, тем более, что преподаватели были не ахти какие, а времени отводилось очень мало. «Пехота, она и есть пехота…». Гидрометеорология почти официально именовалась как «гидромуть», и этим всё сказано.
Порядки и правила казарменной жизни
Размещение курсов в училище было построено так, что наш курс с другими не соприкасался. Исключение составляли парады и подготовка к ним, но и там каждый курс был представлен своим батальоном и жил своей отдельной жизнью. Поэтому практически я почти никого не знал из курсантов других курсов, за исключением младших командиров. Хорошо это или плохо? Теперь мне кажется, что плохо. Замкнутость в своей ячейке, как бы велика ячейка ни была, к хорошему никогда не приводила. Было ли это продумано и сделано специально, преднамеренно? Но тогда какие преследовало цели? Скорей всего, здесь просто моя личная недоработка, сказалась черта характера – склонность к некоторой замкнутости, трудность в приобретении новых друзей. Так или иначе, сейчас я вижу, что много потерял, сделал ошибку, и меня в то время никто почему-то не поправил. Сколько помню, старшиной роты у нас всегда был Агафонов, и был умным, строгим и очень волевым человеком, сталинским стипендиатом. Как-то он проведал, что у меня разборчивый почерк, и стал привлекать меня к писарской ротной работе. А писанины было много. Бесконечные ротные списки, всевозможные ведомости и многое другое. Пишешь, бывало, пишешь, уже рука онемела и не слушается. И всё надо срочно. Обычно делалось это вечером во время прогулки и далее до отбоя. И хотя порой меня освобождали от строевых занятий (что всегда было само по себе великой радостью) и некоторых других мероприятий, писанина эта мне надоела. Я стал отказываться, дело дошло до прямого конфликта с Агафоновым (он хотел во что бы то ни стало переломить меня). Очень много тогда он мне нервов и крови попортил, так что возненавидел я его, наверное, до самой смерти. И всё же, несмотря на всё это и даже на полученные мною наряды вне очереди, я освободился от его гнёта. К достоинству Агафонова, ссору нашу он «из избы не выносил», а я никому не только не жаловался, но даже и не помышлял об этом. На четвертом курсе старшиной роты стал наш Иванов Михаил, доставшийся нам в своё время от предыдущего курса за какие-то провинности. Слыл он твёрдостью характера и «непреклонной» волей. Переубедить его в чём-то было просто невозможно. Рота за один год натерпелась от него предостаточно. Ну, да Бог ему судья. Умер он рано, в Севастополе, и мы, его однокурсники, были в числе всего нескольких человек, проводивших его в последний путь. Старшиной роты у артиллеристов на последнем курсе был Игорь Махонин. Среди курсантов он считался «дубом» – упрямым и твёрдолобым, так что братьям-пушкарям досталось от него не меньше, чем от Агафонова. Перед выпуском многие очень хотели сделать ему «тёмную», но потом одумались, простили, всё обошлось. Это небольшой штрих к вопросу о том, кто иногда (и чаще всего) становится адмиралом. Со своими старшинами класса, а ими в разное время были Владик Груздев и Эрик Рулле, мои взаимоотношения складывались хорошо, мы даже дружили. Распорядок дня выполнялся строго-непреклонно. Подъём в семь утра. К этому моменту возле коек уже стояли поднятые на 10-15 минут раньше старшины классов, командиры отделений, а иногда и помкомвзводы. Дежурный по роте спал не более трёх часов в интервале с нуля до шести, не раздеваясь, а при проверках каждый раз поднимался. Сигнал «Подъём» подавался из рубки дежурного офицера по училищу по трансляции и репетовался дежурным по роте, а также и дневальным с использованием морской дудки и всей мощи своего голоса. По сигналу все не то что вставали, а разом вскакивали мгновенно. Тех, кто крепко спал, тормошили товарищи, а кто и подвергался воздействию младших командиров. С подъёмом подавалась команда: «Приготовиться к построению на физзарядку, форма одежды – по пояс раздетыми». В считанные минуты нужно было успеть одеться в объявленную форму одежды, обуться, быстренько сбегать в гальюн и по команде встать в строй. Физзарядка проводилась в любую погоду в течение 20-25 минут и обязательно начиналась с «пробежки» по внешнему периметру училищных зданий. Выполнялся комплекс непрерывно следующих друг за другом упражнений, который мы были обязаны знать и строго выполнять. Частенько упражнения выполнялись под училищный духовой оркестр. С окончанием физзарядки строем возвращались в спальный корпус, умывались в специально оборудованном умывальнике обязательно до пояса под струёй холодной воды (под наблюдением младших командиров). Это очень хорошая закалка, так что простудами никто почти не болел. Лично я не признавал сквозняков (до поры до времени, увы). Привычка умываться до пояса, к сожалению, на флоте вскоре была утеряна из-за отсутствия условий и нескончаемого числа дежурств «на берегу», а в море на подводной лодке о физзарядке и простом мытье рук приходилось только мечтать. На личную гигиену отводилось 20-25 минут. Этого времени едва хватало, так как в умывальнике на каждый «сосок» (кран) была очередь. Нужно было ещё успеть одеться, подраить ботинки гуталином до блеска и образцово заправить койку, то есть постель. Одеяло должно быть ровно и строго обтянуто (у всех одинаково), подушка взбита, полотенце повешено на высокую спинку (в изголовье), а ножное – на низкую (в ногах). Боже упаси оставить что-либо под подушкой или матрацем! При обнаружении наказание неотвратимо! В тумбочке (одна на четверых, на последнем курсе – на двоих) разрешалось хранить только мыло с мыльницей, зубную щётку в футляре, пасту (зубной порошок), бритвенные принадлежности, – все это в верхнем выдвигающемся ящике. В самой тумбочке можно было держать чистые носки, трусы, а также нитки, иголки, носовые платки. Всё другое нещадно конфисковывалось с объявлением наказания (наряд вне очереди, неувольнение). В семь пятьдесят – построение на утренний осмотр. Младшими командирами проверялась чистота и опрятность одежды и обуви, чистота рук, отсутствие грязных и длинных ногтей, причёска, подтянутость поясного ремня с начищенной до блеска бляхой (пряжкой), отсутствие в карманах посторонних вещей (в левом кармане брюк должен был быть чистый носовой платок). Поводов для получения наказания было предостаточно. После осмотра следовали строем, как всегда, молча, конечно, в столовую на завтрак, коим назывался белый хлеб (в лучшие времена часть батона) с тридцатью граммами масла и сахаром (чаще песком) на одну кружку слабо заваренного чая (конечно, не цейлонского, и не английского, а грузинского второго сорта). Из столовой строем возвращались уже в классные помещения. После двух пар занятий строились на обед. Из первых блюд мне нравились щи. Капуста была своя, с укропом, иногда доставалась косточка или шматочек мяса. На второе, как правило, была каша (ячневая, пшённая, перловка, очень редко гречка или рис) или макароны с подливой и одним-двумя кусочками мяса. Котлеты тоже бывали, но не слишком часто. Очень редко была картошка (пюре или полупюре), а иногда бигос (мы говорили «бигус»), который я очень любил, хотя большинству он не нравился. Это тушёная капуста с добавлением картофеля и с приправами. На третье неизменно компот из сухофруктов, в том числе из абрикосов с очень вкусными ядрышками в них, из-за которых многие поплатились зубами. Сразу после обеда ещё одна пара, на которой очень клонило ко сну. После лекций (занятий) начиналось так называемое личное время. Мы могли отдыхать, читать, посещать библиотеку или буфет и вообще, заниматься чем угодно, но обязательно один (первый) час лежать раздетыми в постели. В личное время нужно было чистить своё личное оружие (винтовку, палаш) в специально предназначенном помещении, драить пуговицы на шинели (бушлате), своевременно стричься в своей парикмахерской (разрешалось иметь короткую и аккуратную прическу). В личное время проводились так называемые строевые собрания и комсомольская работа (собрания, бюро). За час до ужина начиналась самоподготовка – нужно было заниматься в классе или в кабинетах, аудиториях. Если уходил на кафедру, записывал мелом на доске место своего пребывания. На ужин давали суп на мясном бульоне или рыбный и второе – разваренную до консистенции пюре картошку с кусочком рыбы или кашу, бигос с мясом, чаще без оного. На обед и ужин хлеб был только ржаной («черняшка»), его всегда хватало, а если было мало, приносили «добавку». Сразу после этого – продолжение самоподготовки до 21 часа. Затем – «вечерний чай» и вечерняя прогулка по внешнему периметру училища или по улице Дровяной и набережной Обводного канала (иногда с песнями). На вечерний чай давали ломтик белого (серого) хлеба и кружку сладкого чая. Так как для молодого растущего организма этого было совершенно недостаточно, то пили мы чай, как правило, «в складчину», то есть когда хлеб и сахар доставался одному человеку (или двоим по договоренности) из шести, по очереди, а завтра – уже другому. Все остальные при этом сидели за столом, глотали слюнки и могли пить несладкий чай, но ходить в столовую нужно было обязательно всем. По субботам вместо физзарядки каждый выносил свою постель во двор, вытряхивал простыни, выколачивал пыль из матраца и подушки, вдвоем трясли одеяла (с хлопком). Всё оставляли на воздухе для проветривания, выставлялся дневальный до окончания большой приборки. Перед самым обедом по команде постели заносили в казарму и застилали. По воскресеньям физзарядка не предусматривалась, подъём был на час позже, а главное никем не контролировался (кроме дежурного офицера), и можно было спать (не совсем легально, конечно) вплоть до построения на завтрак (некоторые любители поспать не успевали умыться). По воскресеньям часть столов не накрывали, так как большинство уволенных ленинградцев питалось дома. Однако, всегда количество порций на столах было больше, чем едоков, например, один бачок на троих (или четверых) вместо обычной шестёрки. Помнится, был такой случай, когда один курсант целиком съел обед всего «бачка» (за шестерых), и ведь не лопнул же! Жаль, что фамилию его я не запомнил, но кое-кто из ребят помнит этот эпизод из нашей жизни и фамилию его героя. В общем, иногда случалось и «повеселиться»! В будни в 21-50 проводилась вечерняя поверка. Старшина роты перед строем выкрикивал фамилии по списку, на что каждый отвечал «Есть!». Старшина роты следил, чтобы отвечал именно тот, кого он называл. Но все же иногда и его «прокатывали» и умело отвечали за самовольщика. О результатах поверки докладывали дежурному офицеру по училищу: «В третьей роте вечерняя поверка произведена, нетчиков нет». В 22 часа отход ко сну, и можно было идти и ложиться спать, предварительно умывшись (так полагалось), если не было заседания бюро или писанины. В 23.00 полный отбой, полная тишина, выключалось освещение. Иногда включалось ночное – синие лампы. Мы его ненавидели и всё равно выключали («ласково» называя «жопий глаз»). Тогда проверяющие делали замечание дежурной службе. Мы стали выкручивать и портить синие лампочки, а дежурные говорили проверяющим: – «Лампочка только что перегорела, завтра поставим другую». До сих пор помню ненавистный «жопий глаз» и никогда не сплю при включенном, пусть даже слабом, свете. По субботам, сразу после окончания занятий, начиналась большая приборка. За каждым классом были постоянно закреплены те или иные объекты приборки, территории (коридоры, лестницы), служебные помещения, гальюны. Старшина класса загодя расписывал курсантов – кому, где и с кем делать приборку. Гальюны обычно доставались провинившимся. Выполненные работы контролировались и «принимались» младшими командирами, а затем качество выполненной приборки проверялось старшиной и командиром роты на всех ротных объектах. Два-три раза в год, перед большими государственными праздниками выполнялась генеральная приборка. Делалась она по такой же схеме, но последовательно, за два-три приёма, например, после занятий в пятницу и субботу, или же за два-три дня до праздника. После каждой большой приборки, а особенно после генеральной, училище освежалось, как бы молодело, и каждому приятно было это видеть. Дежурная служба… Сколько было придумано «постов», чтобы жизнь не казалась нам слишком легкой! Дежурный по роте (из числа своих младших командиров), дневальные по роте (кубрику), дневальные по гальюнам, по коридорам, рассыльный дежурного офицера, пожарный обход, помощник дежурного по камбузу, помощник дежурного по КПП, помощник дежурного офицера. Подсменные дневальные должны были присутствовать на занятиях. Кроме этого был свой внутренний караул, состоящий из начальника караула (из числа старшин классов), его помощника, разводящего, и часовых: у Знамени части, у секретной части, у склада боепитания, продсклада, шкиперского склада и так далее – под десяток постов, и на каждом посту 2-3 смены. В караул и на камбузные работы назначался весь класс целиком, занятий в этот день для класса не было. Ежедневно в течение примерно часа в личное время проводился инструктаж суточного наряда, заступающего вечером этого дня и следующего за ним выходного. Изучались инструкции, наставления, уставы с последующим опросом. Проводил инструктаж один из офицеров курса, редко – старшина роты. После инструктажа давалось некоторое время для подготовки к заступлению в наряд (чистка, глажка обмундирования и тому подобное). В определенное распорядком дня время, вновь заступающие в наряд следовали на ужин – так называемый ранний расход. После ужина организованно шли на развод суточного наряда училища. В нём принимали участие все, кроме «гальюнщиков». Вновь заступающий дежурный офицер производил подробный смотр в строю и опрос знаний уставов и обязанностей. Неподготовленные курсанты из строя изгонялись с последующими для них выводами (об увольнении на 2-3 предстоящих выходных можно было забыть), и на их место назначались другие. После окончания смотра и инструктажа, строй проходил торжественным маршем (часто под оркестр) и все расходились по местам несения дежурной службы. Самый главный караул был гарнизонный. К нему готовились несколько месяцев. Заступала вся рота полностью один или два раза в год. Оружие на посты выдавалось с боезапасом. Перед заступлением в гарнизонный караул от каждого персонально принимались зачёты по знанию огнестрельного оружия и правилам обращения с ним, по стрельбе в тире на меткость, на знание устава гарнизонной и караульной службы, а также уставов дисциплинарного и внутренней службы. Проверку сначала производил командир роты, затем – начальник курса и заместитель начальника училища по строевой части. За несколько дней перед заступлением, наконец, прибывали специальные проверяющие офицеры из какой-то гарнизонной службы. Они-то и давали оценку подготовленности роты. Развод гарнизонного караула – это тоже целое мероприятие, своего рода спектакль, с многочисленными проверками знания своих обязанностей и действий в неординарных условиях. Мне как-то повезло и за всю бытность в училище довелось участвовать в составе гарнизонного караула всего дважды. Первый раз выводящим на гауптвахте (обязанность хотя и не очень ответственная, но, скажем прямо, премерзкая и в некотором смысле опасная, так как были случаи нападений арестантов на выводящих). Второй раз – на внутреннем посту (на улице Садовой, где размещались комендатура и гауптвахта). А ведь были случаи нападений на часовых, охранявших важные объекты гарнизона (склады), расположенные, как правило, где-то на окраинах города. Увольнение… Одно из самых светлых пятен в довольно беспросветной однообразно-казарменной жизни курсанта. Увольнения всегда ждали, как праздника. Именно увольнение служило главным стимулом всей жизни и деятельности курсанта в его непрерывной и неравной борьбе за самовыживание, единственным противовесом осточертевшей казармщины. Это – так желаемый отдых, это – отвлечение от унылой повседневности, это – встречи и общение с родными, близкими, любимыми, это – так недостающие развлечения (вспомним, всего-то их было: радио – урывками, кино – старые фильмы по субботам и выходным, да ещё кой-какая малость), это – естественное стремление приблизиться к природе, познать что-то новое, иное, чем в обычной «тянучке», удовлетворить свои конкретно индивидуальные потребности (для меня – симфоническая музыка, балет, опера, театр, музей). В душе каждый готовился к увольнению заранее. Графики нарядов составлялись на месяц вперёд, а также были заранее известны планы разного рода мероприятий, проводимых в выходные дни (строевые прогулки, подготовка к парадам и другие). В списки увольняющихся надо было записаться в пятницу. Ленинградцев, то есть курсантов, имеющих близких родственников в Ленинграде, увольняли с 18-00 субботы до 23-00 воскресенья (на выпускном курсе – до утра понедельника). Иногородние увольнялись в субботу до 24-00, а затем утром или после обеда в воскресенье до 23 часов. Имевшие академические задолженности или хотя бы одну двойку права на запись в списки не имели, а если и попадали туда, то безжалостно вычеркивались, равно как и проштрафившиеся. В субботу после ужина желающие уволиться по команде становились в строй, и начинался осмотр персонально каждого сначала командиром отделения, затем последовательно старшиной класса, помкомвзводом, старшиной роты и, наконец, командиром роты. Иногда приходил и начальник курса сказать своё напутственное слово. За малейшую погрешность, неопрятность или не форменную одежду виноватые нещадно изгонялись из строя до следующего увольнения, в лучшем случае.«Изгнанных» всегда было много, так как поводов и причин для придирок было предостаточно: пуговицы не те, не блестят или пришиты неправильно, подворотничок галстука («слюнявчика») несвежий или пришит неверно (его край должен быть чуть выше галстука), «тренчик» (поясной ремень на брюках) отсутствует (его очень не любили носить). Погоны, длина шинели и её спинка (должна быть расшита), ширина брюк внизу, бескозырка, обувь, шнурки, носки, носовые платки, форменные перчатки и многое-многое другое, – всё могло повлиять на увольнение. И так вот каждый раз, когда каждый из нас, имея право и желание на увольнение, подвергался постыдному и ничем не прикрытому унижению. Знал ли кто из воспитателей, сколько надо было иметь сил и выдержки, чтобы вытерпеть все справедливые (а чаще – не очень) требования? Хотел ли знать? Да и зачем? Чужая душа – потёмки. Я никак не мог понять и до сих пор не понимаю, почему курсант, молодой человек, должен был обязательно носить бесформенные неприглядные, но зато уставные (пошитые массовым тиражом на конвейере) бескозырки в то время, как хорошо пошитые и красивые возбранялись? Преследования за хорошо пошитые шинели, тужурки, кителя, фуражки, продолжались всю мою службу и исходили сверху. Зачем и кому это было выгодно – не знаю. Знающие в морской форме толк гражданские лица Ленинграда, увидев военного в уставном обмундировании, насмехались над ним. По этому поводу у нас говаривали: «Народ выдаёт форму, народ и смеётся». Самовольные отлучки… Самоволки были всегда во все времена и всегда же во все времена с особой строгостью, если не жестокостью, карались, но от этого не переставали быть. Лично я самоволки осуждал, и сам никогда в них не ходил, будучи курсантом.
Практика на Чёрном море
7 июня 1950 года нас эшелоном в товарняках привезли в Севастополь. Из Ленинграда выехали 31 мая. В дороге по ночам было очень холодно. Чтобы не замерзнуть, как можно плотней на нарах, прижимались друг к другу, сверху укрывались бушлатом. Поворот с одного бока на другой – только по команде.
Едем на практику на Черноморский флот. Днём на стоянках мы загорали, а Иван Сергеевич ругал нас за нарушения при передвижении в воинском эшелоне
В Севастополе было уже тепло, даже с избытком. Весь курс распределили по кораблям. Четыре или пять классов нашей роты (примерно, 125 человек) попали на линкор «Севастополь», разместили нас в так называемом кинозале. Никакого зала вовсе не было, а было небольшое помещение размером с маленькую комнатку, по периметру заполненное какими-то устройствами и агрегатами, совершенно без окон, (иллюминаторов в помещениях ниже уровня верхней палубы не было). Скученность была такая, что не только лечь-встать было негде, негде было пристроить выданные нам подвесные койки – все пространство было занято телами наиболее расторопных. При всем при этом было знойное без дождей лето, так что было душновато… Помнится, в первую ночь мне удалось протиснуться, лёжа на спине, под какой-то фильтр; пошевельнуться возможности не было. Днём сказали, что под фильтром находиться нельзя, так как его периодически включают. Так я лишился и этого «спального» места, а поэтому все остальные ночи я спал на верхней палубе где-нибудь в уголке, где никто не ходил, не бегал (даже такого роскошного места найти было трудно, на линкоре размещалось не менее 2 тысяч человек). Утром было прохладно, одеяло отсыревало, прикрывался бушлатом. На ходу корабля найти укромное местечко на верхней палубе было невозможно – кругом всё шипело и свистело, бесконечные тревоги и учения, да и качка временами, а главное – не разрешалось. Хорошо, что выход в море за время нашего пребывания был всего один, но целую неделю шли учения по совместному плаванию, артиллерийские стрельбы и так далее. По боевой тревоге я и ещё два курсанта были расписаны на радиолокационном мостике – почти на самой верхотуре, за кривой трубой. Почему мостик радиолокационным назывался, не знаю. Кажется, там были какие-то антенны. Зачем там было необходимо наше присутствие по боевой тревоге? Не помню. Возможно, для наблюдения за воздухом и своевременным обнаружением самолетов, хотя никакой связи с мостиком не было. Но там было хорошо, тихо и спокойно, только холодно, высоко ж ведь и открыто со всех сторон, но мостик как бы прижимался к теплой кривой трубе. Однажды днем проводились артстрельбы главным калибром. Мне очень хотелось посмотреть, как вылетает снаряд. Для этого я наклонился к ограждению, держась за поручень мостика. Довольно громко бабахнуло, из жерла пушки вылетело огромное пламя, меня обдало волной горячего воздуха, сорвало с головы и унесло берет, лицо охватило сильным пахучим жаром, но не опалило. Чуть-чуть не улетел и форменный воротник – гюйс. Вот так пришлось расплачиваться за излишнее любопытство.
Севастополь, июль 1950 года. Линкор Севастополь стоит на бочках в Северной бухте главной базы Черноморского флота
На ходу и на якоре мы несли сигнальную вахту – на сигнальных прожекторах и флагах расцвечивания. Поскольку линкор «Севастополь» был флагманом, этой работы всегда хватало вдоволь. На прожекторах мы были дублерами, флотские сигнальщики были подготовлены лучше нас, хотя некоторые наши курсанты нисколько не уступали им. Нам очень нравилось поднимать сигнальные флаги по-флотски, с «шиком». Требовалось по словесному приказанию с ГКП очень быстро и правильно набрать по трёхфлажному своду сигналов тот или иной сигнал, подготовить и закрепить на каждом сигнальном фале по три флага в строгой определенной последовательности (и, не дай Бог, «вверх ногами»), затем по приказанию вахтенного офицера фалом поднять их и только в самой верхней точке все три сразу раскрыть (развернуть). При отработке совместного плавания работы сигнальщикам было много, едва успевали. После спуска сигнала каждый флаг нужно было правильно сложить, подготовить к последующей работе и уложить в свою ячейку. За четыре часа вахты, как правило, не было ни секунды свободной – только успевай поворачиваться. Конечно, не всегда и не у всех одинаково хорошо получалось, были и «сбои» и ошибки, но когда все получалось как надо, испытывали громадное удовлетворение. Кроме сигнальных вахт, на стоянке на внутреннем рейде у нас проводились различные другие практические занятия. Особенно запомнилась шлюпочная практика – хождение на шестивесельных ялах на веслах и под парусами. Удивительно хороши были черноморские вёсла, нигде больше таких на флотах почему-то не было. Они были лёгкими и очень удобными, гибкими, хорошо сбалансированными и отлично обработанными. Грести ими было одно удовольствие, особенно когда вся шлюпочная команда привыкала к слаженной работе. Сами шлюпки были легкими и стремительными – летели по воде, словно птицы. Однако, досаждал нам двадцати весельный баркас, прозванный нами «сороконожкой». Весла были большие, тяжёлые и шершавые, борт высоко над водой, грести было тяжело, а надо было поспевать, работать слаженно. В общем, сороконожку мы не любили, а я просто ненавидел. Хорошо ещё, что ходить на баркасе приходилось довольно редко, а каждый раз приобретенные на нём мозоли на ладонях к следующему разу успевали заживать. По субботам подъём личного состава производился на час раньше, чем в будни – в пять часов утра. Около 3 часов отводилось на стирку белья и обмундирования. Обязательно нужно было стирать робу, даже если она была сравнительно чистой. С восьми утра до обеда – большая приборка. Каждый из нас был расписан на своем участке и отвечал за качество выполненной работы – её тщательно проверяли сначала младшие начальники, а затем – старший помощник командира корабля. Все деревянное мылось, чистилось с песком, кирпичом; драились все многочисленные медные детали до блеска. Корабль обновлялся, становился как бы моложе и выглядел празднично. После помывки в субботу все переодевались в чистые робы. За этим очень тщательно следили начальники всех уровней. Особое удовольствие доставляло ежедневное купание перед обедом. За полчаса до начало купания на линкоре закрывались все гальюны, прекращалось осушение трюмов помпами и сброс за борт льяльных вод. Желающие купаться по команде выстраивались в две шеренги на верхней палубе на юте, раздевались, одежду аккуратно складывали и оставляли вместе с обувью на своем месте в строю. После пересчета подавалась команда, и мы, по одиночке, но быстро друг за другом, прыгали в воду или спускались по трапу. Плавали самостоятельно, кто как умел, вокруг линкора, успевали сделать два-три круга. Заканчивали купание минута в минуту по сигналу, становились у своей одежды. По команде «Разойдись!» забирали свои вещи и быстро исчезали. Если кто-то вещи не взял, значит, он ещё в воде. Утопленников не было, а вот разгильдяям крепко доставалось, и, в дополнение, они лишались права на купание на какой-то срок. Вода в те годы в Севастопольской бухте была чистая и прозрачная, нефти или масляных пятен на поверхности не было, и купались мы с огромным удовольствием. Жара стояла 30-35 градусов по Цельсию все два месяца, и не было ни единого дождя, ни облачка на небе. Морская практика заканчивалась сдачей многочисленных зачетов, и каждый раз мы должны были показать не столько знания, сколько умения. Например, плавать на скорость, нырять с трехметровой вышки (правильно входить в воду) и тому подобное. Однажды я прыгнул «солдатиком» с пятиметровой вышки, получив за это зачет по гимнастике. Страшно было, но делать нечего, пришлось… Вторую половину практики в том году мы проходили на учебном корабле «Волга», специально оборудованным (и, кстати, очень хорошо) для прохождения штурманской практики. Прибыли мы 27 июля. После линкора «Севастополь» на «Волге» для нас был просто рай: каждый имел свою стационарную койку в просторном кубрике. Учебный корабль «Волга» курсировал вдоль Крымского и Кавказского побережья; мы должны были и могли для определения места корабля использовать береговое гидрографическое оборудование, попутно изучали лоцию. Иногда «Волга» уходила несколько мористее, чтобы дать нам возможность потренироваться в определении места только по светилам. Каждый курсант дважды по четыре часа в сутки работал на своём боевом посту – нёс вахту. Работа наша контролировалась и оценивалась преподавателями кафедры навигации. Единственный недостаток, ощущавшийся нами, – кормёжка по сравнению с линкором «Севастополь» была слабовата. Видимо, у интенданта были свои нормы, хотя морской паёк для всех одинаков. И ещё – отсутствие купания, так как корабль все время был на ходу. Организация морской практики на «Волге», пожалуй, не оставляла желать лучшего, попросту была образцовой, и менее чем за месяц похода мы получили хорошие навыки в штурманском деле, включая астрономическую практику. Не обходилось и без курьезов. Так, например, Толя Клеменьев не без успеха пеленговал огни движущегося на берегу автомобиля вместо гидрографического огня, чем вызвал общий хохот и последующие подначки сотоварищей. На «Волге» практика продолжалась до 18 августа. С 19 по 25 мы опять эшелоном с теплушками возвращались в Ленинград, а затем убыли в месячный отпуск.
Музыка любви…
Значительную часть времени в увольнении я проводил вместе со своей будущей женой – Анисимовой Тоней. Познакомились мы с ней в Мончегорске, когда учились в одном классе. Тоня была отличницей, спортсменкой, ходила с высоко поднятой головой, но, в сущности, была очень простой девчонкой, не задавалась, как некоторые. В 1949 году, окончив среднюю школу № 3 города Мончегорска с серебряной медалью, она без экзаменов поступила в Ленинградский государственный университет на исторический факультет. К тому времени я уже два года был в Ленинграде, прилично познакомился с городом и знал, куда можно было пойти. Если у нас водились кое-какие деньги, мы шли в театр. На оперу, балет или симфонические концерты в филармонии выбор был за мной, а в драмтеатры билеты брала Тоня. Чаще всего шли в кино, а до и после очень много гуляли по Ленинграду. Кроме шумного и многолюдного Невского проспекта, я старался выбирать тихие и красивые улицы, где можно было разговаривать удобно и без свидетелей. Бродили весь вечер допоздна, злачные места не посещали, даже столовые, военнослужащим это не рекомендовалось. Тогда я ещё не знал, что частенько Тоня была голодной (меня-то худо-бедно, но всё же постоянно и нормально кормили), так как или не успевала до встречи поесть, или у неё просто на это не было денег. Иногда мы вместе решали, что лучше – посмотреть ли фильм, купить ли мороженое или взять 200 грамм карамелек. Конфеты в Ленинграде классные! Темы наших бесед были самые разнообразные. Часто мы делились мнениями о прочитанных книгах, или обсуждали просмотренные фильмы (тогда их было очень много, каждую неделю – новый фильм). Я рассказывал об узнанном о жизни и творчестве композиторов, о прослушанной понравившейся музыке, иногда меня «прорывало» от полученных впечатлений на лекциях по математике и физике. Тоня часто красочно рассказывала о лекциях выдающихся профессоров университета (некоторые из них устраивали красочные «спектакли»). О чём мы никогда не говорили, – это о своих чувствах друг к другу. Тема любви была как бы запретной, а скорей всего (как я думал) – сама собой разумеющейся. Я очень стеснялся об этом говорить вслух, Тоня, видимо, тоже. Только на четвёртом курсе я осмелился и предложил Тоне считать друг друга женихом и невестой. Тоня согласилась, произошла как бы негласная помолвка. Жила Тоня в общежитии на Охте, «у чёрта на куличках», ездить мне туда было очень сложно и долго, и мы встречались чаще всего в центре города. На третьем курсе Тоню перевели в общежитие для иностранных студентов, расположенное на Мытнинской набережной, в двух шагах от университета. Встречаться стало проще. Иногда с окончанием встречи я уже даже мог Тоню проводить до общежития, что раньше сделать было никак нельзя. Тоня очень любила танцы, изредка и меня «затаскивала» на студенческие вечера. Поскольку я хорошо танцевать не мог и очень стеснялся, то посещать их не любил. Раза два приглашал Тоню к себе в училище в клуб на танцы, но наши вечера, как мне, так и Тоне, не нравились, мы предпочитали филармонию. Мои однокашники, зная, что я любитель симфонической музыки и филармонии, говаривали, удивляясь: «На фига попу гармонь, а курсанту – филармонь?». Меня это не обескураживало, так что ленинградская филармония была и осталась моей необходимостью, душевной потребностью на всю оставшуюся жизнь. Музыка в моей жизни всегда занимала очень большое место, начиная с самого детства. Приобщение состоялось поздно, когда в 14 лет я попал в музкоманду Владивостокского военно-морского подготовительного училища. Во времена курсантские я мог воспользоваться богатейшими возможностями ленинградской культурной и музыкальной жизни весьма ограниченно, так как посещать Филармонию, Мариинку, Малый оперный, оперную студию консерватории имел возможность лишь в часы увольнений, по субботам и воскресеньям. Потребности мои удовлетворялись лишь частично. И, тем не менее, мы с Тоней смогли за эти студенческие (курсантские) годы послушать много хорошей музыки. Больше всего меня тянуло в Филармонию. Самыми любимыми были концерты симфонического оркестра под управлением Евгения Александровича Мравинского. Для меня они являлись настоящими большими праздниками души и тела. Попасть на них удавалось не часто, так как они только изредка совпадали с выходными днями, когда мне предоставлялась счастливейшая возможность услышать и воочию воспринять, прочувствовать всю глубину и прелесть исполняемых произведений. Чаще всего это были симфонии Чайковского и Шостаковича. Когда я впервые услышал Пятую Симфонию Чайковского в исполнении симфонического оркестра филармонии под управлением Мравинского, я был уверен, что именно она была наивысшим достижением в творчестве композитора, настолько запала она в душу. Музыку Шестой Симфонии си-минор я слышал по радио несколько раньше. И вот когда однажды я увидел и услышал Симфонию № 6 в исполнении Е.А. Мравинского, она просто изумила, поразила и основательно потрясла, я получил величайшее наслаждение и удовлетворение. Теперь-то я понял, почему именно Шестая, а не Пятая Симфония всегда и всеми знатоками и ценителями ставилась выше Пятой. Великолепное исполнение музыки оркестром в сочетании с живым лицезрением обаятельного Мравинского, прежде всего, его выразительнейшей мимики и в целом лица, его огромных, точно крылья, не менее выразительных рук, производили сильное впечатление. Естественный и непринуждённый звуковой поток, как плавное течение большой реки, вливался прямо в душу и в сердце так, что всё было ясно и понятно, величественно красиво, а сам я становился как бы непосредственным соучастником всего того, что пережил сам композитор и передал своей музыкой нам. Шестую Симфонию я полюбил с самого первого прослушивания, неизменно люблю и сейчас, часто слушаю её, затаив дыхание, в грамзаписи в исполнении образцовых оркестров и дирижёров и каждый раз с благодарностью вспоминаю тот замечательный вечер, что подарил мне на всю жизнь Е.А. Мравинский со своим непревзойдённым оркестром. Вечера симфонической музыки в филармонии с Е.А. Мравинским основательно потрясали меня и были виновниками последующих бессонных ночей, когда по свежей памяти я мысленно ещё и ещё раз «прослушивал» и переживал услышанное. Оркестр Мравинского стал для меня безусловным эталоном исполнения. Совершенное, великолепное, идеальное звучание оркестра навсегда запало в память и в душу; слушать другие оркестры, как, например, Крымский филармонический, хотя и очень приятно, но всё же как-то слегка досадно, жалостливо-тоскливо. Чаще других в те времена с ленинградским симфоническим оркестром выступали Курт Зандерлинг, Арвид Янсонс, Элиасберг, Борис Хайкин, Э.П. Грикуров, Н.С. Рабинович, а из москвичей – А.В. Гаук, К. Иванов, Г. Рождественский, К. Кондрашин. Я стремился посещать концерты, в которых исполнялась, как наиболее близкая и понятная мне, русская классика, а также Моцарт, Бетховен, Шопен, Лист, Григ, Берлиоз, Прокофьев, Шостакович. Музыка Шостаковича, говоря по правде, представлялась мне очень уж прозрачной и худосочной. В Ленинградской Филармонии мне посчастливилось услышать многих знаменитых, выдающихся, великих исполнителей и мастеров, таких, как Д.Ф. Ойстрах, Л.Б. Коган, И. Безродный, Ю. Ситковецкий (его имя внезапно исчезло), Л. Оборин, М. Гринберг, С. Кнушевицкий, Д. Шафран, С.Я. Лемешев. С большинством выдающихся исполнителей, вокалистов, инструменталистов и дирижёров я познакомился только в грамзаписи. Всегда жалел и жалею, что не довелось услышать, увидеть на сцене или эстраде моих великих современников, таких, как Виктория Иванова, Галина Ковалёва, Тамара Милашкина, Бэла Руденко (сопрано), Ирина Богачёва, Тамара Синявская, Елена Образцова (меццо-сопрано), И.С. Козловский, Владимир Атлантов, Константин Лисовский, Виргилиюс Норейка, Владислав Пьявко, Анатолий Соловьяненко, Константин Плужников (тенора), Борис Штоколов, Евгений Нестеренко, Борис Гмыря, Юрий Гуляев, Дмитрий Гнатюк, Максим Рейзен, Александр Огнивцев, Артур Эйзен, Анатолий Кочерга, Муслим Магомаев, Ермек Серкебаев (басы и баритоны). Я уже не говорю о мировых знаменитостях, таких, как Мариам Кабалье, Мария Каллас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Николай Гедда и многих других. К счастью, все они представлены, а некоторые даже богато, в моей фонотеке. Горд и удовлетворён тем, что на сцене видел и слышал Марию Биешу, Тамару Сорокину, Валентину Левко, Максима Дормидонтовича Михайлова, Ивана Петрова, С.Я. Лемешева, Юрия Мазурока, Леонида Сметанникова, Владимира Мальченко, Сергея Лейферкуса, а также Галину Сергеевну Уланову, Наталью Михайловну Дудинскую, Ф.Балабину, Т.Вечеслову, Н. Тихомирнову, К.Сергеева, В.Ухова, В. Чабукиани, С.Каплана. В Ленинграде всегда в городе был праздник, когда приезжал Академический Русский хор СССР под управлением Александра Васильевича Свешникова. Мне посчастливилось трижды наслаждаться и восхищаться его искусством. Это было какое-то совершенно необыкновенное сказочно-волшебное звучание. Какая слаженность, какая дикция! Вся сотня голосов буквально сливалась в один чарующий звук, и было отчётливо ясно слышно и понятно каждое слово. Идеальное звучание хора Свешникова навсегда и глубоко врезалось в память, а в нынешние времена я счастлив, прослушивая его программы в грамзаписи. Удалось послушать и многие другие хоровые коллективы, из которых особо выделялись такие, как Хор Ленинградского университета, Республиканская Академическая хоровая капелла, Северный Русский народный хор, Воронежский народный хор и некоторые другие. Два слова о танцевальных коллективах. На первом месте на недосягаемой вершине, конечно же, Ансамбль Игоря Моисеева. Когда однажды Ансамбль приехал на гастроли в Севастополь и давал пять концертов в течение четырёх дней, я посещал их ежедневно. Посмотрел четырежды и каждый раз с всё нарастающим восторгом. Такого коллектива в мире, я уверен, больше нет. Запомнились выступления «Берёзки» и танцевальная группа хора имени Пятницкого. С Краснознамённым Ансамблем песни и пляски Советской Армии я знаком только по грамзаписи и по телевидению. Часы и минуты, прожитые мной на концертах симфонических оркестров, спектаклях оперы и балета, на концертах хоровых и танцевальных ансамблей были, вне всякого сомнения, лучшим временем моей жизни.
Изучение службы на Северном флоте
Летом 1951 года практику проходили на Северном флоте. Первая часть со 1.06 по 30.06 – на «бобиках» – БО – больших охотниках за подводными лодками в Полярном. Выходов в море не было, но много плавали по Кольскому заливу и несли брендвахту на море. «Бобики» были старенькими, полученными по Ленд-Лизу, корпуса были деревянными, очень быстро обрастали ракушками. Мы постигали устройство корабля и его вооружение. Узнали что такое «торедо-новалис», насколько он коварен, как разрушает деревянный корпус, как с ним бороться.
Северный флот, лето 1951 года. Морская практика на больших охотниках за подводными лодками
Вторая половина практики с 30.06 по 22.07 проходила на торпедных катерах в губе Западной Долгой, в бухте Лобаниха. Размещались на плавбазе «Пинега», довольно скученно, на корабле было много крыс, часто по ночам они появлялись и в кубрике и даже пробегали по телам спящих. Нередко все просыпались от ужасных криков тех, кого избрали крысы. Детали практики не вспомнились, но несколько раз нам довелось «поплавать» на торпедных катерах – были переходы из Долгой в Росту (Мурманск) и обратно, мы были счастливыми свидетелями сорокапятиузловой скорости хода, ощутили на себе вибрацию корпуса и даже получили бортовой паек (шоколад и еще что-то). Хорошо запомнилась деталь, в сущности, к морской практике отношения не имеющая. Однажды в выходной день стояла отличная солнечная погода, была организована вылазка на побережье в горы губы Западной Долгой. Местность очень красивая, была зелень (кустики, берёзки), а на склонах ложбин лежал снег. По пояс раздетыми мы катались по снежному насту на своих широких «гадах». Время провели весело и интересно, даже загорали. На память остались фотокарточки.
1 июля 1951 года. Губа Долгая Западная
Третья часть практики 1951 года была самой интересной и проходила она с 23.07 по 24.08 на тральщиках Амиках в море на переходах и непосредственно на боевом тралении оставшихся от войны мин. На отличных американских тральщиках, полученных по Ленд-Лизу. Мы несли штурманскую вахту. Место нужно было определять особенно точно, для чего на побережье выставлялись специальные посты и радиомаяки, а боевая штурманская часть усиливалась. Дублировали, как и на эсминцах, вахтенных офицеров, а также несли вахту на юте – следили по приборам за натяжением трала и наблюдали за его поведением. Надо отметить, что некоторые мои однокашники через сорок лет (из числа тех, кто не имел других льгот) получили статус участника боевых действий за участие в боевом тралении. Амики поразили нас своим совершенством, удобством расположения служебных и жилых помещений, своими мореходными качествами и специальным вооружением. Достаточно сказать, что на них уже тогда была радиолокационная станция. В то время для малых кораблей это было просто в диковинку. Прекрасно был организован быт матросов и старшин. Спали мы на мягких койках с хорошими не тонущими матрацами и необыкновенно большущими лёгкими, пушистыми шерстяными одеялами. При необходимости одеяло можно было сложить вдвое и его вполне хватало. Под таким одеялом не страшен любой холод, а до чего ж приятно, трудно описать. Исправно работали стиральные машины. Питались не в кубрике, а в столовой личного состава. На отечественных и трофейных немецких даже крупных кораблях этого не было и в помине. Кормили очень хорошо и вкусно, хлеб всегда был свежий – выпекали ежедневно, вдоволь было отличной селёдки и превосходной квашеной капусты. Бочки с селёдкой и капустой стояли в укрытии на юте, и каждый раз после ночной вахты («собаки») можно было отлично подкрепиться. Мылись регулярно. В определенные дни вечером в свободное от вахты время можно было посмотреть кинофильм, имелась приличная библиотека. Очень удобно была расположена просторная штурманская рубка – рядом и на одном уровне с ходовой рубкой, так что штурман мог слышать все команды на изменение курса и режима хода. Близко и удобно были расположены репитеры гирокомпаса с хорошими пеленгаторами по бортам, на специальных выступающих мостиках – на «закрылках», с высокими нактоузами, а также и на сигнальном мостике – в диаметральной плоскости ТЩ. Пеленговать было удобно и быстро. В промежутках между боевыми тралениями в разных географических местах (у островов Новая Земля, Колгуев, в Карском море, в Енисейском заливе) поднимались до 72-го градуса северной широты, на восток уходили до 72,5 градуса в Обской губе. Тральщики заходили на кратковременные стоянки на Новую Землю, остров Диксон. Мы сходили на берег, знакомились с новыми местами и условиями жизни людей. На Новой Земле многих из нас поразили удивительно яркие и крупные голубые незабудки, многочисленные стада оленей, полное отсутствие у туземного населения самых элементарных бытовых условий. Люди обитали в юртах, воду для питья и приготовления пищи брали прямо из углублений и небольших озёр, а в так называемом магазине на острове Диксон не было абсолютно ничего, кроме водки, спирта и рыбы. Правда, дома, жилища, там все-таки были. Морская практика на тральщиках была организована блестяще. Мы были ею очень довольны, получили, «взяли» для себя очень много. В конце практики нас одарили морским денежным довольствием – 30% от стипендии, что нас приятно удивило, а вот финансового вознаграждения за участие в боевом тралении не получили, так как не были штатными единицами экипажа, и об этом очень сожалели. Как я уже упоминал, некоторые из нас все же компенсацию получили через сорок лет в виде чувствительных льгот, особенно по платежам за коммунальные услуги.
Архангельск, 29 июля 1951 года. День Военно-Морского Флота. Мы в увольнении. Слева направо: Игорь Пакальнис, Валя Куцицкий, Гера Александров, Костя Селигерский
Взаимоотношения между нами, командованием и офицерами кораблей сложились самые лучшие, а с некоторыми даже теплые, мы получили отличные оценки и характеристики. 24.08.51 прямо из Мурманска я убыл в отпуск и уже вечером был в Мончегорске. Практика 1952 года проходила тоже на Северном флоте и началась 13 июня снова на «бобиках», а продолжалась до 4 июля. На этот раз БО много плавали в море, отрабатывали курсовые задачи, в том числе фактическое бомбометание обычными глубинными бомбами. Я находился на БО-241, БО-235, БО-242 и на БО-232.
Вторая половина практики проходила на эсминцах новейшего проекта. Была очень интенсивная боевая подготовка с многочисленными выходами в море на учения. Я попал на ЭМ-115 «Отрадный». Несли разные вахты, в том числе дублировали вахтенных офицеров. Условия размещения были приличными.
Полярный, Пала-губа, июль 1952 года. Идём на шлюпках на подрывные работы
В заключение практики 1952 года нас «прокатили» на самолёте Ли-2 бортовой номер 18430701. В течение получаса 20-го июля мы были в воздухе над Ваенгой (Главной военно-морской базой Северного флота). Все мы были очень довольны, так как на самолёте летали впервые. Впечатление осталось незабываемым, как будто мы наблюдали огромную физическую карту со всеми подробностями на земле. С 28 по 31 июля мы ехали из Мурманска в Ленинград. 4 августа я убыл в отпуск вместе с Лёшей Шмыговым к его родителям в деревню Чёрное возле станции Железнодорожная под Москвой.
Парады запомнились на всю жизнь
Несколько слов о строевой подготовке. Обычно строевые занятия проводились раз в неделю в течение часа в так называемое личное время, в период окончания академических занятий перед самоподготовкой. Но поскольку училище не менее двух раз в году обязательно принимало участие в общегарнизонных парадах, подготовка к ним начиналась за два (и более) месяца. В эти периоды эти занятия парадного расчета училища (в него входило 100% свободных от дежурств и нарядов) проводились, как правило, три-четыре раза в неделю (иногда и по воскресеньям) по 4-5 часов, включая время перехода на Кировскую площадь, где проводились тренировки. Дважды за период моего обучения училище принимало участие в парадах в Москве на Красной площади, в 1950-м и 1952-м годах, на праздновании 1-го Мая. По этой причине занятия вообще прекращались, и нас, примерно, 11-13 апреля вывозили в Москву. Тренировки проходили ежедневно по 6-8 часов на площади у Речного вокзала в Химках, там же обедали на верандах ресторана. Уставали до смерти, несмотря на то, что от места расквартирования в больших армейских палатках в парке санатория «Чёрный лебедь» в Лихоборах нас возили на голубых военно-морских фордах, и лихо, с ветерком. Все бы ничего, ноги выдерживали, а вот левая рука уставала до изнеможения как у слабака, вроде меня, так и у сильного Филиппа Плессера, поскольку на нее ложилась вся тяжесть винтовки в положении «на плечо». Вес небольшой, но приклад винтовки длительное время нужно было крепко удерживать ладонью, рука при этом была согнута в локте и находилась в неподвижном напряженном положении, прижатая к телу. У всех, как у одного, винтовка должна была быть в строго определенном положении, чуть наклоненном назад, ни на сантиметр не выше и не ниже, чем положено. При ходьбе строевым шагом это определенное положение должно строго соблюдаться, ибо даже незначительные отклонения тотчас же замечались со стороны. Винтовка – это как бы продолжение твоего тела. Достигалось это нелегко, путем многократных и длительных тренировок в Химках до седьмого пота.
Короткий отдых в перерыве между тренировками
В Москву мы ездили с удовольствием (по разным причинам), хотя и приходилось тяжеловато. На следующий же после приезда день проверка высокого представителя Генштаба показывала, что ни нога, ни рука у нас «не поставлены», поворот головы вправо, в сторону трибуны отработан неправильно, темп прохождения необходимо ускорить (его задавал наш, военно-морской оркестр, а на генеральной репетиции и на параде – сводный), наконец, на лицах нет улыбок. В последующие дни к нам на тренировки приезжал «специалист по ноге», «специалист по руке» и другие «специалисты», каждый в чине полковника. Они объясняли, рассказывали и показывали всё, что нам нужно было правильно делать, а затем появлялись с проверкой уже незадолго до генеральной репетиции. Поскольку мы не были «албанцами» или новичками-новобранцами, то все указания специалистов мы схватывали к их удовольствию на лету. Даже «улыбку» отрабатывали своеобразным путем: в момент поворота головы (который осуществлялся всем батальонам в 200 человек одновременно и однообразно – горделиво по неофициальной команде «раз, два, три», негромко подхватываемой всеми курсантами), некто из курсантов поизносил: «Зубы!», и мы, хотели того или нет, делали необходимый «оскал», наблюдателями воспринимаемый как улыбку. Генрепетиция проводилась ночью, при свете прожекторов на Тушинском аэродроме. Принимала её комиссия во главе с легендарным Семёном Михайловичем Будённым. Для того, чтобы мы на репетиции не расслаблялись, пускался слух, что по результатам именно генрепетиции будет дана оценка за участие в параде. Так или иначе, оба раза за показанные высокие результаты на Красной площади каждый из нас получил благодарность Министра Обороны с записью в личную карточку взысканий и поощрений.
Москва, Химки, апрель 1952 года. Северный речной вокзал. Обед на веранде ресторана "Волга"
Говоря о парадах и строевой подготовке, невозможно не сказать о вдохновителе и организаторе этого дела – заместителе начальника училища по строевой части полковнике Соколове. Высокий, стройный, подтянутый, с необыкновенно горделивой осанкой и красивым, мужественным лицом, увенчанным огромной фуражкой (как говорили, размером с аэродром), он вызывал восторг всех его наблюдавших, как женщин (в особенности), так и мужчин. К тому же он обладал огромным, правильно поставленным голосом приятного баритонально – басового тембра, и его командами можно было просто заслушаться как музыкой. Это был наш «Тарзан» (как раз в те годы шел нашумевший фильм). Ни до, ни после мне никогда больше не приходилось ни видеть, ни слышать такого офицера-строевика! Как правило, все прочие были людьми весьма ограниченными как в физическом, так и в интеллектуальном отношении. Как потом, выяснилось, в своё время полковник Соколов был адъютантом Николая Герасимовича Кузнецова, а из училища ушёл на должность коменданта города Ленинграда. Дважды мы имели возможность, находясь в строю парадного расчета, лицезреть живого товарища Сталина. В первый раз мы были удивлены, смущены и немного разочарованы: на трибуне стоял (или сидел, как потом оказалось) не богатырь, каким его обычно изображали на портретах народу, а маленький, щуплый человечек, внимательно рассматривающий нас, с небольшим, изрытым оспой, лицом, приятно нам улыбающийся. Во второй раз товарищ Сталин и его окружение нас пристально не разглядывало, как раз в то время, когда наши батальоны проходили Мавзолей В.И. Ленина, в небе появились самолеты, и взоры стоявших на трибуне Мавзолея были устремлены вверх. Нам было очень обидно. Организаторы не могли подождать еще 3-5 минут (или не рассчитали?), ведь пешеходная часть парада заканчивалась. Единственным утешением был тот факт, что один только наш Главком ВМФ Н.Г. Кузнецов не поднял головы, а пристально, цепко всматривался в наши стройные шеренги по двадцать человек, и это очень подбодрило нас. Главкому мы оба раза понравились и получили благодарность с занесением в личное дело. Так подробно остановился на строевых занятиях потому, что гражданские люди, в том числе подчас и наши родные, близкие, понятия об этом не имеют и вообще к военным относятся предвзято несправедливо. А вот в Москве оба раза после парада в строю, но уже походным шагом, мы возвращались по запруженным народом улицам до площади Маяковского. Нас на всём пути восторженно приветствовали, а иногда некоторых из нас девушки умудрялись поцеловать!
Выпускной курс и производство в офицеры
Начало последнего учебного года встретило нас очередным «сюрпризом». В верхах было принято решение, повлиявшее на судьбы значительного числа курсантов. Было произведено ещё одно разделение по специальности – штурманов и минёров произвели в подводники. Срок обучения на нашем курсе увеличили на три месяца ввиду появления новых дисциплин: устройство подводных лодок новых проектов, тактика боевых действий подводных лодок, боевое использование торпедного и минного оружия с подводных лодок и другие. А также ввели значительное число теоретических и практических курсов (организация службы на подводной лодке, боевые и повседневные расписания, системы регенерации воздуха, использование индивидуальных дыхательных аппаратов ИДА и устройств при выходе из затонувшей подводной лодки, легководолазная подготовка и так далее). Объём изменений в программе подготовки был значительным, и за сравнительно короткое время мы должны были изрядно попотеть, чтобы подготовиться к службе на подводных лодках. Последний учебный год, самый продолжительный по времени, пролетел незаметно и быстро. Помимо академического процесса в училище, систематически нас возили в учебный отряд подводного плавания, где мы проходили тренировки в барокамере, в бассейне, в «башне смерти» – по выходу в ИДА с глубины 26 метров, а также групповой выход с небольшой глубины через торпедный аппарат. Короче, успели пройти и огонь, и воду (борьба за живучесть) и медные трубы (правда, стальные).
Ленинград, 1-е БВВМУ, 1953 год. С Женей Корневым фотографировались на память перед выпуском из училища
Хорош последний курс уже и тем, что не было помкомвзводов со старшего курса, на эти должности были назначены «свои». Спали мы теперь на одноярусных койках. Отношение со стороны старших начальников стало мягче. Во всём к нам чувствовалось уважение, порой подчёркнутое. Теперь нам стали часто напоминать, что мы «без пяти минут офицеры!». Чаще мы могли быть в увольнении, особенно ленинградцы, их отпускали на ночь даже в некоторые будни. В августе 1953 года – шесть государственных экзаменов, а непосредственно перед ними – шесть курсовых. Напряжение было довольно большим, нужно было правильно распределить свои силы, занятия непременно чередовать с отдыхом. Хорошо ещё, что лето было холодным, нас не изнуряла жара, а между курсовыми и государственными экзаменами дали недельную передышку – отпуск без выезда из Ленинграда. Я провёл его, в основном, в Петродворце, на квартире у брата Александра. Иногда вторую половину дня и вечер проводил в Ленинграде, посещал музеи, «прощался» с городом. Сразу после «госов» значительную часть подводников произвели в офицеры, остальные уехали на стажировку на Северный флот, им было присвоено звание мичман. Чем была вызвана эта поспешность, сказать трудно. Нам объяснили – острым дефицитом офицеров на флотах, однако, впоследствии это не очень-то подтвердилось. Так или иначе, получив погоны, соответствующее обмундирование и офицерское жалованье, мы, лишившись положенного после выпуска месячного отпуска, должны были в короткий срок прибыть к новому месту службы. Так как я хорошо закончил учёбу, мне предоставили право выбора флота, и я выбрал Тихоокеанский, как настоящий патриот. Оказалось, что в группу друзей – тихоокеанцев я не вписываюсь, ребята попросили меня поменяться на Черноморский флот, и я согласился. Но тут оказалось, что на Чёрное море очень хотел попасть Костя Макаров, распределённый на Северный флот. Меня снова начали уговаривать поменяться с ним. Так как «для бедной Тани все были жребии равны», то и с этим я согласился. Итак, окончательно я получил назначение на должность командира торпедной группы большой подводной лодки «Б-4» (бывшей Лунинской К-21). После выпускного «вечера» – торжественного обеда, имевшего меcто быть в 13 часов в клубе училища, мы навсегда, как казалось, распрощались с родным училищем, в стенах которого, как тогда принято было говорить, обучались шесть – семь лет. Воспоминания об учебном заведении, где приобретались знания и закладывались основы практических навыков, формировался характер и мировоззрение, а затем получалась путёвка в жизнь, всегда пронизаны каким-то особенным чувством восторга и гордости. Тем более, если это касается ещё и специального учреждения, каковым является высшее военно-морское училище – кузница военно-морских кадров. Для меня училище явилось не только школой, но и вскормившей и вспоившей матерью, так как знания и навыки, приобретённые в его стенах, как потом выяснилось, были прочными и вполне достаточными для нормального прохождения флотской службы, действительно стали моей путеводной звездой на протяжении всей моей сложной службы на подводных лодках и надводных кораблях ВМФ. Кроме того, училище заложило основы для дальнейшего углубления специализации и обретения профессионализма в своём деле. Училище дало нам хорошую специальную подготовку, твёрдые знания и основы практических навыков. Конечно, достигнуто это было старанием и умением, прежде всего преподавательского состава, а также усердием мичманов-лаборантов, требовательностью командования, начальников курсов и кафедр, командиров рот. Многих из них вспоминал я как на службе, так и в своём повествовании. Конечно, не всех – многих забыл, а многое, так сказать, осталось незамеченным, как бы «вне кадра». В частности, много тёплых слов нашими ребятами было сказано в адрес начальника училища Никитина Бориса Викторовича, особенно – начальника курса Щёголева Ивана Сергеевича, командира роты Савельева Ивана Ивановича, политработника Комиссарова Алексея Исидоровича и многих других. Очень я уважал и сейчас уважаю всех этих и других добрых учителей-воспитателей, но должен сказать прямо и правдиво, что лично в моей жизни какого-то особого конкретного участия они не принимали и заметного следа не оставили. Видимо, связано это с тем, что у отцов-командиров почти всё служебное время (во всяком случае, большую его часть) занимали разного рода нарушители дисциплины и порядка, любители самоволок и спиртного, лентяи, слабаки, а таковых у нас было достаточно. Я же, как не был образцом для подражания, так не был и разгильдяем, учился хорошо и был достаточно дисциплинированным. Бывали мелкие провинности и стычки, но только с младшим звеном начальства, до старшины роты включительно. Поэтому «разбирательством» со мной никто не занимался, сам я никогда и ни по каким вопросам к начальникам от командира роты и выше не обращался. Вот поэтому, видимо, в моей жизни во время учёбы, как мне кажется, какого-то глубокого следа они не оставили. В памяти они остались как вполне разумные, добрые и очень требовательные, а подчас и жёсткие командиры, и большое спасибо всем им за это. Очень, конечно, жаль, что большая часть времени обучения, два последних года, проходила по бесконечным переходным программам и скользящим расписаниям, что слишком много было отдано времени и затрачено сил на дисциплины, так и не пригодившиеся в службе и жизни (артиллерия, тактика и другие). Оправдывалось это только требованиями времени и изменяющейся ситуацией в стране после смерти И.В. Сталина. 21 августа 1953 года, мы выпустились, точнее, нас произвели в лейтенанты корабельной службы и выпустили в белый свет, выдали небольшие деньжата из уже офицерского оклада и звания, командировочное предписание прибыть 3 сентября в Отдел кадров в распоряжение Командующего Северным флотом.
Севастополь, 2004 год
Продолжение следует |