



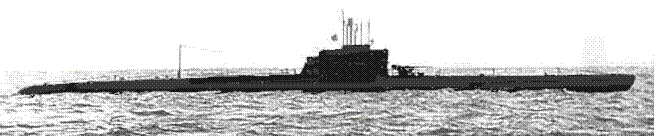
© Клубков Ю. М. 1997 год
|
|
  |
 |
|
|
© Клубков Ю. М. 1997 год |
|||
|
Загускин Николай Евгеньевич – человек творческий. Кроме подготовительного и высшего военно-морского училища, окончил сценарный факультет ВГИК, член Союза кинематографистов, автор более 40 документальных, научно-популярных и учебных фильмов. Является одним из основателей Оргкомитета выпускников "46-49-53" и Морского клуба "Вторая суббота апреля"(ежегодные встречи у памятника "Стерегущему"). Автор большинства оргкомитетовских документов и бессменный тамада на юбилейных встречах однокашников. В поисках свободного для творчества времени ушел в запас в 45 лет, с должности старшего научного сотрудника Академии тыла и транспорта, в звании капитана 2 ранга. Сейчас продолжает литературную, сценарную и общественную деятельность.
Моим друзьям и внуку Никите
Я – И ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ(БИОГРАФИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТИКИ)
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Смолоду я был склонен к авантюрам, которые многим осложняли жизнь, а то и причиняли прямой ущерб. Сейчас, после семидесяти, самое время покаяться… Но не во всём же сразу! Для этого понадобился бы целый роман. Да и есть ли смысл описывать банальные нарушения воинской дисциплины – как я становился в строй между командами «Шагом…» и «…Марш!», как дремал на посту, прислонившись к стенке и опершись на штык, как бегал в самовольные отлучки? И есть ли смысл говорить о хроническом моём «дамоклианстве» – о привычке делать что-либо только если над головой занесён меч, дамоклов или не дамоклов, ну, например, впервые открывать учебники в ночь перед экзаменами?.. Всё это не так уж интересно, а главное, не нужно, поскольку исчерпывается двумя словами ротного старшины Петра Евтухова: «Обнаковенный разгильдяй!». Нет, я расскажу о событиях более острых, об эпизодах, в которых высвечиваются мои отношения с органами и службами, обеспечивающими правопорядок и государственную безопасность. Каковы же эти отношения в принципе, с каким они знаком – плюс или минус? Отвечу, не таясь: ни на Лубянке, ни возле питерского Большого дома памятника мне не поставят. Но если отношения были негативными, а поступки никоим образом не были образцово-показательными, то для чего посвящать повествование друзьям и внуку? Друзьям – для того, чтобы они стали свидетелями покаяния, а внуку – чтобы не повторял чужих ошибок… и активней совершал свои собственные. Некоторые фамилии изменены, хотя этого можно было и не делать – многих уже нет в живых, да и «срок давности» давно истёк.
ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ
«Раз и два, раз и два, – где нога, где голова? Нет ни глаза, ни руки – подрывники, подрывники!»
Таков был припев к «Маршу подрывников», сочинённому мной в Костроме в 1943 году. Тем летом мы со Славкой Савичевым обитали вместе с отцами – майорами-преподавателями – в учебном лагере Военно-транспортной академии, эвакуированной из Ленинграда. Жили в палатках. У слушателей были практические занятия по подрывному делу. Лёжа поблизости, за кустами, мы со Славкой прошли своего рода ликбез: виды ВВ, детонаторы, шнуры и тому подобное. Однажды, когда заложенный в яму фугасный заряд уже начали засыпать землёй, наступил обеденный час. Группа во главе с проводившим занятие капитаном двинулась в столовую, оставив одного слушателя для охраны взрывчатки и прочего сапёрного имущества. Охранитель порылся в карманах, выбросил пустую папиросную пачку и, оглядевшись, пошёл к палаткам, очевидно за куревом – ну что может случиться за какие-то пять минут на закрытой для посторонних территории. И всё-таки случилось. Многоопытному капитану показалось, что взрыв прозвучал слабее, чем следовало. Он приказал осмотреть воронку и выбросы из неё – нет ли почему-то не взорвавшихся толовых шашек. Неразрешимая для капитана загадка имела простое объяснение. За несколько бесконтрольных минут мы успели докопаться до взрывчатки, благо лопатка была тут же, и умыкнули две четырёхсотграммовые шашки, а, кроме того, оттяпали метра два бикфордова шнура и прихватили из коробки три капсюля-детонатора. Вскоре один из капсюлей – лишний – опробовали под маневровым паровозиком. Нам показалось, что передняя колёсная пара малость подпрыгнула! Паровозик дал реверс и замер. Машинист высунулся и стал смотреть вверх – не бомбят ли?.. Да, тринадцатилетние не слишком задумываются о последствиях. К счастью, колесо, наехавшее на детонатор, не лопнуло. Толовые шашки были использованы для глушения рыбы, а остатки шнура пригодились в Ленинграде, куда осенью 1944-го возвратилась академия. Преподавателей с семьями поселили в жилом городке на Таврической, возле полуразрушенного Суворовского музея. Однотипные пятиэтажные дома составляли прямоугольное каре, внутри которого был большой двор, разрезанный пополам бетонным тиром – вот уж где мы постреляли из «личного оружия» в вечернее и ночное время с последующим разбеганием во все стороны! Особенно бесконтрольным и безнаказанным это стало в начале 1945-го, когда академия в полном составе убыла на 2-й Белорусский фронт для транспортного обеспечения стратегических операций, завершавших войну. Почти все ленинградские пацаны, а в особенности, не охлаждённые блокадой «возвращенцы», были «на ты» с оружием и боеприпасами. И то, и другое находили под городом в великом множестве. Несчастные случаи не отбивали пытливости и азарта, помноженного на хулиганские навыки, почерпнутые в эвакуации или приобретённые вследствие повальной безотцовщины. Во дворах, а то и в школьных коридорах зигзагами летали дымящиеся пороховые «макаронины». От щёлканья ружейных патронов вздрагивали и плевались горящими угольками школьные печи. Мы со Славой, как и примкнувший к нам Витя Ипатов по прозвищу «Хобот» (он учился в одном с нами классе и жил в нашем дворе), «детскими шалостями» не занимались. Наша деятельность была целеустремлённей и изящней. Например – художественный подрыв почтовых ящиков у некоторых «зловредных» обитателей городка. Ящики были в те времена на каждой двери. Убедившись, что в намеченном ящике нет писем,– как видите, мстители не были лишены благородства, – мы всовывали туда старые газеты и детонатор с коротким бикфордовым шнуром. За 15-20 секунд горения успевали либо выбежать во двор, либо взлететь на чердак. Фанерные ящики разлетались в щепки, жестяные разворачивались, как цветок, и газетное «конфетти» устилало всю лестничную площадку. Домохозяйки большого двора поговаривали, что орудует «Чёрная кошка» и присочиняли, что на месте ящика всегда нарисован крест. После третьего взорванного ящика появился академический «смершевец». По слухам, он тщательно изучал биографии потерпевших, вероятно, искал нечто общее, переcекающееся, известно же: отыщешь мотив – найдёшь и преступника. Но, видно, не догадался он спросить, а не ругают ли потерпевшие ребятишек, играющих во дворе в футбол и в «12 палочек», а не гоняют ли их из тира?.. Хочу запоздало извиниться перед потерпевшими – не слишком-то мы были разумными. А вот другая «изящная» история. Как-то Женька Юдкин, – тоже с Большого двора, но уже восьмиклассник, – раздобыл целый короб немецких патронов. Можно бы пострелять от души, да нет подходящей винтовки. Но мы видели такие в залах Музея обороны Ленинграда. Огромный был музей, с танками, самолётами, орудиями, не говоря уже про всякую стрелковую мелочь. Главная роль досталась Женьке. Дело было ранней весной, на улицах ещё лежал снег, в музее не раздевались. Женька пришёл в тулупе и в валенках, опираясь на инвалидную палочку и активно хромая, – видно было, что нога в колене не гнётся. На всякий случай «ассистенты» акцентрировали на Женькиной ноге внимание охранников при входе: – Ну чё шкандыбаешь, тянешься как сопля! Навязался на нашу голову. – Бесчувственные вы! – ругнула нас старушка-вохровка. Двое отвлекали смотрительницу зала, трое прикрывали Женьку. Вожделенная винтовка была закреплена еле-еле, поскольку экспонат не слишком ценный, да и вынести невозможно. А зачем выносить? Винтовка покинула музей самоходом: ствол – в валенке, цевьё и приклад – под тулупом. Теперь Женькина нога в самом деле не гнулась, и он вполне реально хромал целых два квартала, до парадной, где был припрятан мешок. Нанесенный нами ущерб не сопоставим с тем, что произошло года три спустя. Москва, ревниво охранявшая свой приоритет во всём, приказала уничтожить музей, запечатлевший подвиг Ленинграда... Но это уже за рамками моей темы, это другой, более высокий уровень отношений с госбезопасностью. Летом тройка самодеятельных подрывников – Слава, Витя-Хобот и я – приступила к крупномасштабным загородным операциям. Идея была светлой: незримо помочь сапёрам в уничтожении бесхозных боеприпасов и тем самым защитить от увечий пацанву, не обладающую нашей теоретической и практической подготовкой. Ездили мы на станцию Мга, в лесах под которой всего было навалом. Натаскивали в ДЗОТ, в землянку или в окоп ящики со снарядами, миномётные и противотанковые мины и прочую взрывчатку, найденную поблизости. К коротенькому бикфордову шнуру прилаживали самодельный фитиль-замедлитель – обработанный селитрой пеньковый канатик длиной и толщиной с сигару. За 40-50 минут, пока он тлел, мы успевали вернуться на станцию и мирно беседовали, сидя на скамеечке – этакие благопристойные ребятишки, приехавшие по грибы. И вот, километрах в трёх, вспышка, мощный взрыв и столб чёрного дыма. На станции переполох, а мы преисполнены гордости – получилось!.. Пригородные пассажирские поезда ходили редко, но нас устраивал и товарняк – были тогда вагоны со служебной укрытой от дождя площадкой, где находилось колёсико ручного тормоза. Как тут не вспомнить фразу из учебника немецкого языка: «Дети возвращались домой усталые, но довольные». В один прекрасный день поездки закончились. Прекрасным называю этот день лишь потому, что было солнечно и сухо, но это один из двух самых страшных дней в моей жизни. В бору, километрах в пяти от станции, набрели на нехоженое местечко: ящики со снарядами и горка ранее нам не попадавшихся мин – штук 30-40, ну прямо мечта! Взяли одну, с самого верху, принялись изучать. Противотанковая или противопехотная? Для противопехотной крупновата и слишком тяжела. Гладкий стальной цилиндр, а из верхней крышки торчат три проволочных усика. Вероятно, противотанковая. Попросил Славу и Виктора отойти – так и в кино показывали, когда герой разоружал незнакомую мину. Отошли. Я осторожненько выкрутил усики вместе с трубкой, уходившей вглубь цилиндра. Внутри трубки оказались пружина, боёк и на конце маленький капсюль типа охотничьего «жевело». Одним словом, устройство совершенно безобидное, что я и продемонстрировал, слегка надавив на усики – система сработала, капсюль исправно щёлкнул. Соратники подошли для дальнейших исследований. Перевернули мину и потрясли над травой – непременно должен вывалиться капсюль детонатор. А его нет, пусто, только чёрные порошинки посыпались совсем уж изнутри, от самого донышка. Точно такой же оказалась и вторая разоруженная нами мина. Проанализировали ситуацию. Скорей всего, мины собранны и обезврежены нашими сапёрами – ведь детонаторы кем-то вынуты. Хотя возможен и другой вариант: немецкие сапёры вкладывали детонаторы непосредственно перед установкой мин и эту партию просто не успели подготовить. Пожалуй, мины всё-таки противопехотные и при том подпрыгивающие – именно для этого в поддон насыпан порох. Без детонатора взрыва быть не может, но прыгать-то, мины не разучилась? Надо бы посмотреть, как они прыгают. Можно лечь рядом и стукнуть по усикам палочкой, но куда после прыжка упадёт корпус, весящий килограмма два, не менее?.. Решили смотреть чуть издали, а на усики нажать бревном, выдернув из-под него подставку с помощью найденной в карманах верёвочки длиной метров десять. Задумано – сделано, мина под бревном, бревно на подпорке, осталось только потянуть за верёвочку, я уже и слабину выбрал. На всякий случай залегли. – А что если нам ещё раз её осмотреть?.. – задумчиво произнёс несколько флегматичный, всегда молчаливый Витя. Признаться, я тоже чувствовал некоторую неуверенность, хотя и не подавал виду, поскольку был за старшего. – Ну, что ж, давайте, бережёного Бог бережёт. Извлекли мину из-под бревна, снова выкрутили усики. Но на сей раз выкрутили и три винтика, образующих на верхней крышке равнобедренный треугольник. Ранее мы считали эти винтики просто крепёжными, однако под ними оказались глубокие полости… из которых вывалились сразу три детонатора!.. Доступными стали и внутренности, скрытые внешней оболочкой: примерно шестисотграммовый столбик взрывчатки, окружённый двумя рядами шариков шрапнели. Такая мина, выпрыгнув из земли, способна угробить целую роту. Только тогда стало страшно. Поняли что это значит – «быть на волоске». – Драпанём-ка отсюда, пока ноги шевелятся? – А мины?.. Сколько «трофейщиков» может подорваться! И не хотелось, но выполнили обычные процедуры и подожгли замедлитель. Едва начали отход, тот же Витя, можно сказать герой дня, вдруг хрипловато крикнул: – Стоп!.. Взгляните… вот, возле ноги! Замерли. Осмотрелись. Увидели усики, на которые чуть не наступил Витя, а поодаль ещё одни, прикрытые жухлой травой. Значит, часть мин немцы всё-таки успели поставить. – Вляпались!.. Пойдём медленно, друг за другом, след – в след. Через бор шли не менее получаса, высоко, как аисты, поднимая ноги и высматривая куда ступить. Выйдя на тропинку, ведущую, вроде бы, к железной дороге, побежали. Взрыв прогремел, когда мы, с корзиночками, где лежало несколько сыроежек, уже пересекли "железку" и оказались на более обжитой территории. По пути на станцию нас отловили то ли милицейские, то ли какие иные оперы, оба в штатском, очень сердитые. – Эй, грибники херовы, на той стороне были? – Не, мы туда не ходим. – Может, видели кого? – Нет, только взрыв слышали. – Марш на станцию! И никогда сюда не ездите, минные поля вокруг. Уехать удалось только вечером, на открытой платформе с углём, да и то лишь до ленинградской сортировочной. Больше по Мгинским лесам не шастали – хорошенького понемножку. От последнего похода остались два капсюля детонатора. Один хранился у меня, другой – у моего друга Николая Кармалина, который, хотя и не был безразличен к подрывным делам, но предпочитал «стрелковый спорт», используя для этой цели старенький Смит-и-Вессон, сохранившийся, вероятно, ещё с предыдущей войны. Мы с Кармалиным зимой 1945-46-го, наряду со стрелковыми упражнениями (в коридоре садили в какую-то политическую книгу), издавали многостраничный, хорошо иллюстрированный «подпартный» журнал «Премудрый пИскарь», снискавший большую популярность в нашем хулиганистом, но прогрессивно мыслящем 7-м классе 157-й школы. Сейчас четыре номера этого журнала стали вполне легальными – переданы в школьный музей. Однако, вернёмся к детонаторам. Хранили мы их со всеми предосторожностями, обернув в вату, – как-никак, могут взорваться от любого нажима или от падения на пол. Но хранили так долго, что и вовсе про них позабыли. Вспомнили через несколько лет, когда мы с женой были в гостях у Кармалиных. Их годовалая дочка Леночка вышла из соседней комнаты… удерживая в зубах хорошо знакомый алюминиевый цилиндрик! Я первым обрёл дар речи: – Леночка, деточка… дай дяде карандашик!.. Есть у меня глубокая убеждённость, что взрывчатка злобно выискивает, как отомстить своим пользователям, стремится на чём-нибудь их подловить. Не удалось! Последний детонатор немедленно был спущен в канализацию. О.Генри справедливо утверждал, что «дороги, которые мы выбираем, живут внутри нас». Витя-Хобот окончил «Военмех» и всю жизнь был связан с оружием. Я, окончив Подготовительное, а затем Высшее военно-морское училище подводного плавания, стал минёром-торпедистом. Опыт подрывника очень пригодился при освобождении из ледового плена на Колыме, где в 1956-57-м зазимовали подводные лодки, не пробившиеся на Дальний восток по Северному морскому пути. Слава Савичев в 1946-м поступал в «Подготию» вместе со мной, но, неожиданно для себя, оказался дальтоником. Это не помешало ему по окончании «Ин'яза» стать, как пишут иной раз, «сотрудником одной из спецслужб». Не различая зелёный и красный, он великолепно водил машину, ориентируясь по движению транспортных потоков и расположению огоньков на светофорах. Подрывал ли он где-нибудь что-нибудь, кроме устоев капитализма, – не знаю, говорить об этом Слава воздерживался, а сейчас уже и не спросишь – нет его на белом свете. Один Коля Кармалин остался, вроде бы, мирным и безоружным – стал торговым моряком. Но кто же, как не он, возил оружие и боеприпасы во многие «не наши точки» для обеспечения «наших государственных интересов»? А кроме того он, как и я, нередко оказывался «подрывником» в переносном смысле слова, о чём будет рассказано ниже.
ПОДРЫВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЧТОВОЙ СИСТЕМЫ
Это было на первом курсе «Подготии», если по-школьному, то в восьмом классе. Старшина роты Евтухов шепотом приказал мне сразу после занятий прибыть к особисту-смершевцу майору Светикову, обитавшему в отдельном кабинете на втором этаже, и никому об этом не говорить. – А зачем? – тоже шепотом спросил я. – Там всё тебе разъяснят, всё из тебя вытрясут, – плотоядно ухмыльнулся не очень-то ко мне распложенный старшина. – И чтоб без никаких опозданий! На уроках разложил свою жизнь, а также жизнь родителей и родственников, на чёрные и белые квадратики. Чёрных оказалось немало. По какому из них придётся держать ответ?… Настольная лампа светила прямо в лицо, хозяин кабинета оставался в густой тени. – Что такое Биг Карамора? – спросил он как бы между прочим, как несущественное. – Не знаю... Какое-то насекомое? – Так. Откуда знаете, что насекомое? И что должны делать, получив этот сигнал? – Товарищ майор, про насекомое подумалось по созвучию. А сигналов таких мы ещё не проходили. Светиков сменил тему: – Так. А где находится и какому государству принадлежит, – он взглянул на нечто лежащее перед ним, – остров Грин Габе? – Остров Зелёных Жаб?! – обрадовался я, поняв, наконец, в чём дело.– Он в южных морях, в прошлом колония, а сейчас состоит под протекторатом Парнасской республики, которая на материке… И пришлось мне рассказать майору, что у нас игра такая, по почтовой переписке. Мы с Николаем Кармалиным – он в средней «мореходке», будущий радист – как бы возглавляем Парнасскую республику. И есть у нас коварный противник – Мавритания, где у власти находится наш школьный приятель Андрей Чигиринский по кличке «Мавр», отсюда и название его страны. А остров Зелёных Жаб наш союзник. – Ваш государственный строй, программа, замыслы? Осознав серьёзность вопросов, возрадовался, что майор не спросил про герб. А у Парнаса был таковой – кот с задранным вверх хвостом, вид сзади. Его хорошо знали в моём 112-м классе, поскольку на занятиях я только и делал, что писал письма и разрисовывал конверты. Был и флаг с рисунком в центре зелёного полотнища: половинка солнца, выглядывающего из-за горы Парнас, и всё это в обрамлении лавровых ветвей. – Никакого строя, никакой программы, никаких замыслов, – уверенно доложил я, – всё чистая фантазия. Смысл игры в самодельных марках на конверте, которые как бы рассказывают о происходящих или предстоящих событиях. Такие марки клеятся или дорисовываются в дополнение к обычным, нормальным. Это когда мы пишем в Мавританию, то есть Чигиринскому. Марки отражают индустриальную и интеллектуальную мощь Парнаса. А Мавритания обычно присылает нам письма с марками, на которых изображена грозная военная техника – танки самолёты, мавры, идущие в атаку, и прочее. Бывают мавританские марки обгорелые по краям, в чём мы видим угрозу – прямой намёк на то, что ждёт Парнас и Зелёных Жаб в ближайшее время. – Так, так, продолжайте. – На письмах ко мне и от меня нормальные марки клеить вообще не надо – войсковая часть, почтовая связь бесплатная. А наши, рисованные, они ведь никому не мешают? Могут быть также рисунки на конверте или какие-нибудь открытки с тематически подходящим изображением. Текста в письмах может и не быть, или же он самый обыкновенный, про нашу учёбу и жизнь. – Значит, кодовая, шифрованная переписка? Объясните, например, от кого пришли и что означают вот эти послания? Он положил передо мной зарубежного происхождения открытку с симпатичными лягушками, дающими концерт, и рукописной надписью «Остров Green Gabe». А рядышком положил небольшую тусклую фотокарточку, на которой огромный комар и размашистая надпись «Big Karamora», а на обороте – мой адрес, овальный штамп, означающий, что письмо доплатное… и больше ничего – ни текста, ни адреса отправителя.
Вещественные доказательства тайной шифрованной переписки заговорщиков
Ага, подумал я, значит других письмишек у него нет, это хорошо. И с удовольствием дал исчерпывающие объяснения: – Обе открытки от Кармалина. Истолковывать их можно по-разному, в этом-то и прелесть нашей игры. Открытку с островов я, вероятно, истолковал бы так: «Накапливаем потенциал на случай войны с Мавританией. Начали откорм лягушек для продажи в итальянские и французские рестораны». Майор отвернулся и как-то странно закашлял. Тем временем я пристально рассматривал фотографию комара, хищно растопырившего лапы. – А эта открытка, вне всякого сомнения, уведомляет о намерениях Мавритании использовать против нас специально выведенных особо ядовитых комаров… Майор хрюкнул, высморкался и стал сурово-официальным. – Ну, вот что, поговорил бы с Вами ещё, да некогда. Забирайте эти глупости. Развели тут парнасию-швамбранию. Детский сад! И ничего подобного, зарубите это на носу, ничего подобного чтобы в училище больше не приходило! Так и скажите своим приятелям. Вы свободны. О разговоре – никому. На третьем этаже подкарауливал старшина Евтухов. – Ну, об чём была беседа? – Да вот, поинтересовались порядком в нашей баталерке… и в ротном хозяйстве вообще... Я сказал, что всё в норме, потому что старшина опытный. – Ладно, остряк, уволишься ты у меня в субботу! Я тебе покажу весь мой опыт! Но терять мне было нечего – в классном журнале две жирные пары, не поддающиеся выведению с помощью бритвы. Путь в город один – в самоволку, через забор. Несмотря на испытанные гонения, парнасско-мавританская переписка продолжалась, но особо броские послания, эпатирующие, если не общество, то, по крайней мере, почту, пошли на мой домашний адрес. До сих пор не пойму, как почта могла быть столь терпеливой? Вот лишь некоторые экспонаты, прошедшие по почте и хранящиеся в моём домашнем «почтовом музее». Письма с иностранными или нарисованными марками вместо советских. Марка размером покрупнее, превращённая в «открытку» – адрес меленько написан на обратной, клеевой стороне. «Открытка» в виде ребристого картонного блюдечка, на котором когда-то что-то ели. Узенькая полутораметровая полоска кальки, скатанная в тугой рулон, с невидимым адресом, обозначенным где-то внутри. Парнасские марки не только рисовались, но и печатались с помощью зеркально перевёрнутого чернильного рисунка, нанесенного на глянцевую фотобумагу С такого клише получалось пять-шесть одинаковых отпечатков. А чего стоят лохматые, как бы объеденные крысами открыточки с наклеенными газетными и журнальными текстами-уродцами типа «Швея закричал» или «Бедный лев и бал бабочек»!.. Всего не перечислишь. И вот, в один прекрасный день… Вы уже заметили, что я довольно однообразно начинаю рассказывать о дне, после которого вынужденно заканчивались те или иные авантюры?.. Так вот, в один прекрасный день, перед самым окончанием первого курса, в учебном классе, на переменке, слоноподобный Эдька Цыбин затеял борьбу и сломал мне левую голень. Лёжа на полу и слегка постанывая, я пытался доказать прибежавшему командиру роты, незабвенному Семёну Павловичу Попову, что Цыбин ни в чём не виноват – мы изучали приёмы французской борьбы, и это я сам неудачно подвернул ногу. Госпиталь, гипс, костыли. Почтовые отправления сомнительного вида и содержания исправно приходили в палату и столь же исправно уходили. Тема марок и рисунков – лозунги Госстраха, крушения, катастрофы и, конечно, костылики и инвалидные коляски во всех видах. Когда гипс был уже снят, я получил письмо с необычным адресом и убийственным машинописным текстом. Волосы встали дыбом: отправитель – Горпрокуратура. Мне предлагалось прибыть такого-то числа. в такое-то время, по такому-то адресу в качестве свидетеля по делу о фальсификации знаков почтовой оплаты. И подпись – Старший следователь. Первая мысль – надо как-то сговориться о линии поведения с Кармалиным и Чигиринским, которые наверняка тоже вызваны для дачи показаний. Но как? Домашнего телефона ни у кого из нас не было, – телефоны тогда являлись редкостной роскошью, вроде телевизоров и холодильников. Родители придут навестить только послезавтра. И вот, после ужина, я раздобыл плащ, палочку, шляпу и, подтягиваясь на руках, преодолел госпитальный забор. На Фонтанке поймал такси, договорился об оплате в пункте назначения, и рванул домой, на Таврическую.
В таком виде сбежал из госпиталя выручать друзей
Неприятностями пришлось поделиться с отцом, и без того обеспокоенным моим побегом из госпиталя. Мать мы решили не информировать о прокурорском письме – спать не будет. Попросил отца сегодня же вечером, в крайнем случае, завтра утром, передать от меня записки обоим будущим "подельникам". В записках говорилось, что я жду их завтра, в определённый час возле госпитальной проходной для переговоров по важному и для всех опасному делу. Отец пообещал, хотя и выразил вполне закономерное недовольство: – Я вам говорил, что допрыгаетесь? Вот и допрыгались со своими дурацкими и аляповатыми марками! В марках он был профессионалом – с детства филателией занимался. По молодости я мало интересовался подробностями его пребывания на фронте в сорок первом, да оно и было недолгим – до тяжёлого ранения в июльских боях под Ельней. А из боевых эпизодов сорок пятого хорошо запомнил только рассказ о штурме берлинского почтамта. На следующий день,– с пистолетом в руке, мимо трупов, по пояс в воде,– он заглянул-таки в почтамтские подвалы-кладовые. Увы, наиболее ценные марки – германские княжества, колонии, полёты «Цеппелина», середина 30-х – всё это лежало под водой на нижних полках, а на верхних только банальные сороковые годы, в основном с разноразмерными портретами Гитлера и так называемая «военная серия», чем-то схожая с последующими мавританскими творениями Чигиринского. Впрочем, и от всего этого отец не отказался – обменный фонд. В результате, когда в жилой городок академии стали поступать традиционные в те времена трофеи, вплоть до мебели, мы скромненько получили только один фанерный ящик, набитый марками снизу доверху… Но возвратимся к текущим драматическим событиям. Ни Кармалин, ни Чигиринский на переговоры ко мне так и не пришли. Более того, как выяснилось чуть позже, серьёзно обиделись, посчитав меня причастным… к крутому «профилактическому» розыгрышу, учинённому моим папой! Это он изготовил и разослал всем троим «прокурорские» письма. При первой же встрече оба «подельника» заявили, что сразу обо всём догадались. Понятное дело, не могли же они признаться, что купились и струхнули, как и я. Но через годик-другой всё-таки раскололись: «Хотя и были некоторые сомнения, мы всё же съездили по указанному адресу и убедились, что нет там ничего похожего на прокуратуру». На этом парнасская почта свою деятельность завершила. И очень вовремя. Со дня на день мы могли получить повестки на настоящих бланках с подлинными подписями – времена-то были нешуточные.
КРЫМ, РЫМ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ
На втором курсе подготии мы c мореходцем-Кармалиным переселились из Парнасской республики в «Гринландию» – в романтический мир, созданный Александром Грином и дорисованный Паустовским и Леонидом Борисовым, автором «Волшебника из Гель-Гью». Мы были отнюдь не одиноки, увлечение Грином быстро распространялось среди молодёжи. Начало положили «Алые паруса» и «Бегущая по волнам», массово изданные в 1944-м, с предисловием Константина Паустовского. Позже появились «Автобиографическая повесть», «Дорога никуда», «Золотая цепь», «Блистающий мир», сборники рассказов. Одиозными критиками всё это рассматривалось как идеологическая диверсия. В каких только грехах ни обвиняли писателя, не издававшегося с середины тридцатых! И писать-то он не умеет (тут же пример: …собака лайнула…), и герои у него ущербные, и идеология не наша – пустомечтатель, уводящий молодёжь от реальности, от активного участия в строительстве социализма… Он и впрямь уводил. Но не от реальности, а от псевдореальности, настырно навязываемой всеми способами воздействия на глаза и уши – романами типа «Кавалер Золотой звезды», радиовраньём, бесчисленными потёмкинскими деревнями, однотипными, насквозь заорганизованными комсомольскими собраниями и прочее, и прочее. Хотелось глотка свежего воздуха, вот им и стали произведения Александра Грина. Хотелось чаще встречать в жизни людей, подобных гриновским героям, – отважных, прямых, сильных духом и в то же время наделённых чутким, доверчивым сердцем. Мечталось и самим быть такими же. В училище я знал многих, увлечённых Грином. Особо выделялся Слава Колпаков, со старшего курса. Он выучил «Алые паруса» наизусть, а главное и в жизни чем-то напоминал гриновского капитана Грея. Быть может, не все знают, как погиб Слава Колпаков, хотя живы легенды об этом, да и Виктор Конецкий описывал. Слава был помощником на «малютке». На выходе из Балтийска лодку протаранил возвращавшийся в базу эсминец. Она сразу затонула, легла на грунт на глубине около 50 метров. Живые собрались в первом отсеке, старшим среди них оказался Колпаков. Спасательное судно подошло довольно быстро. Прибыл и Командующий флотом. Выловили аварийный буй, связались с лодкой по телефону. В отсеке темно, он полузатоплен, люди в воздушной подушке. Колпаков доложил, что может попытаться вывести личный состав через торпедные аппараты. Командующий, понимая насколько это рискованно, запретил – «Ждите, всех поднимем». Ожидание длилось долго. Планы и попытки спасательных действий оказались нереальными, и Командующий дал разрешение на самостоятельный выход. Но к этому времени ситуация изменилась, открыть передние крышки аппаратов стало невозможно. Что же ответил Колпаков? Выругался? Упрекнул Командующего? Нет и нет. Оставаясь самим собой и заботясь о поддержании духа тех, кто был в отсеке, он ответил: «Доложите Командующему, выходить отказываемся – мы одеты не по форме!». Затем буй оторвало волной и связь навсегда прекратилась. Но вернёмся к текущим делам, то праведным, то грешным. Ещё зимой мы с Кармалиным задумали в период летних отпусков (сроки почти совпадали) посетить городок Старый Крым, отыскать дом, где жил и умер Александр Грин, и его могилу. Замысел вынашивали несколько месяцев.
Весна 1948 года. Полностью погружён в мечты о предстоящем путешествии на могилу Грина
И вот отпускной билет у меня в кармане, вещички собраны – компас, котелок и всё такое прочее, необходимое для пешего, именно пешего паломничества. А Кармалин в полном прогаре! За какие-то грехи, учебные и дисциплинарные, он оставлен в училище, где тоже военные порядки: морская форма, бескозырки с ленточками, строевые роты, офицеры-воспитатели, в общем, всё как у нас. В увольнения он иногда ходит, чаще в самоволки, а отпуск не дают, хоть убейся. Расставаться с замыслом было обидно, я пошёл на Большой Смоленский, в Среднюю мореходку, «разбираться». Разумеется, был в форме, с уже тремя гордыми красными галочками на рукаве. – Веди меня к командиру роты. – И что я ему скажу? – Так и скажи, что пришел твой друг и хочет побеседовать. – А что ты ему скажешь? Он мужик твёрдый, Грином его не проймёшь. Я и сам не знал, что скажу, но при пиковых ситуациях дамоклианцы (см. предисловие!) черпают идеи из воздуха. Взгляд упал на старую газету, которой была застелена тумбочка: «…присутствовал командующий Московским военным округом генерал-полковник…» и далее – его имя, отчество и фамилия. Тут меня и осенило. – Есть тема! Пойдём, пока блин горячий. Ты только поддакивай, если понадобится. И мы пошли. Комроты, капитан, на месте оказался случайно – ведь все его подопечные уже разъехались. Повезло, фортуна показала нам передок, и это добавило вдохновенья. Ходатай из другого училища – гость редкий, мне было предложено сесть, а Кармалин был выдворен в коридор. Но стены-то фанерные, он слышал весь наш разговор. Я представился и сказал, что пришёл по поводу отпуска курсанта Кармалина. Тут же, в качестве мотивировки, сообщил, что мы дружим с детсадовского возраста, ещё с тех времён, когда папа Кармалина был радистом у Папанина, на одной из первых ледовых дрейфующих станций… (Здесь была только одна привиралка – существенное преувеличение реальных сроков нашей дружбы)… и мы с моим другом и тёзкой Николаем так надеялись провести этот отпуск вместе… Теперь слово взял комроты. Он сказал, что прекрасно меня понимает и даже тронут столь явным проявлением дружеских чувств, но… и он выложил целый букет кармалинских прегрешений. Свой впечатляющий монолог комроты завершил справедливым утверждением, что, предоставив нерадивому курсанту Кармалину отпуск, он подорвал бы (заметьте: п о д о р в а л бы!) основы дисциплинарной практики, а кроме того нарушил бы приказ начальника училища, «относящийся к данному контингенту лиц, являющихся, по сути, кандидатами на отчисление». Наши не пляшут, подумал я, и извлёк из рукава главный козырь: – Да, понимаю... Вы правы, возразить нечего… Жаль только дядя огорчится, он ждёт нас вдвоём… – Какой дядя? – ради приличия спросил комроты и посмотрел на часы, давая понять, что аудиенция окончена. – Мой, московский… по материнской линии… да вы, наверное, слышали про него, он иногда парадами командует на Красной площади… – и я назвал воинское звание, фамилию и имя-отчество командующего Московским округом. (Да простят меня уважаемый генерал и мама моя, не ведавшая, что я подыскал ей такого братика!). Пауза показалась мне длинноватой. – Ради такого уважаемого человека отпущу Кармалина в Москву на пять дней … даже на семь. – А на десять можно? Дядя вчера звонил, сказал, что культурную программу подготовил на десять дней, включая поездку на танкодром. – Ладно, десять. Видеть его не хочу. Передайте, пусть завтра приходит за отпускными документами.
Мы счастливы – впереди отпуск!
Так решилась основная проблема. Но появились мелкие. Отпускной у Кармалина до Москвы, а надо бы до Симферополя, как у меня, – иначе не уедешь, касса билетов не даст, да и в Крыму прихватить могут. К тому же дарованных десяти дней маловато, надо бы, как минимум, две недели. И ещё накладочка – Кармалину вместе с документами был вручён сургучом опечатанный пакет от начальника училища, адресованный Министру Морского флота, со строжайшим указанием передать из рук в руки. Призвав на помощь опыт создания зеркальных клише для парнасских марок, Кармалин изобразил на фотобумаге гербовую печать училища и умыкнул из канцелярии чистый бланк отпускного билета. Выписали до Симферополя, на 18 дней. Подпись поставил я. Печать перевелась сносно и, если не приглядываться, могла сойти за подлинную. Решили и проблему передачи таинственного пакета. В день отъезда телеграфировали Эдику Цыбину и Вите Логинову, – моим друзьям-однокашникам, находящимся в отпуску в Москве, – попросили встретить транзитный поезд такой-то, вагон такой-то.
Загускин, Цыбин и Логинов любили «испить чаёк на клотике»…во время практики на шхуне «Учёба»
Поезд пришел в Москву около полуночи. Оба бравых подгота стояли на перроне. Провели краткое совещание. Передать пакет взялся Цыбин, ему же мы отдали подлинный отпускной Кармалина – иначе как пройдёшь в министерство. – А вдруг министр начнёт выспрашивать про мореходку? – Сейчас расскажу кой-чего, – начал Кармалин. Но до отправления оставалось полторы минуты, и на выручку пришел будущий ООНовский дипломат Витя Логинов: – Эдик, напиши на пакете «лично», поставь восклицательный знак и дважды подчеркни. Отдашь секретарше, которая вскрыть не посмеет, передаст из рук в руки. И мы продолжили свой вояж с фальшивым отпускным, но с лёгким сердцем. Три дня гостили в Симферополе, у моего дяди по материнской линии… на сей раз у подлинного дяди. Пешком в Старый Крым не пошли – далековато и слишком жарко. Но не ехать же в святое место рейсовым автобусом. Вышли на трассу и остановили старенький грузовичок. Моряков тогда подвозили охотно, доброжелательно и, конечно, бесплатно. Ехали в открытом кузове. Тёплый ветер обдувал лицо, душа ликовала от близости желанной цели. Запомнилась аллея гигантских тополей, по которой мы, с рюкзаками на плечах, вступили в город. Вдоль улиц посажены и плодоносят вишни и дикие абрикосы, рви сколько пожелаешь. Маленькие чистые южные домики, в большинстве своём саманные. Встречные дети вежливо здороваются – так было принято в Крыму, да и в любой сельской местности. Спросили, где кладбище. Мальчик предложил проводить, но мы под благовидным предлогом отказались – сами должны найти, только сами. И нашли! Едва ступив на ничем не ограждённую кладбищенскую землю, оказались возле могилы А.С.Грина и безмолвно высказали друг другу одну и ту же мысль: провидение знало куда и как нас вести! Опасались увидеть нечто обыденное или официозное, но могила была истинно гриновской. Пребывала она в грустноватом запустении. Невысокая, рассечённая трещиной стела с потускневшим овальным портретом и выцветшей именной табличкой. Надгробие, живописно окаймлённое мхом, в лучах предзакатного солнца казалось многоцветным. Над стелой нависали зелёные ветки то ли кустарника, то ли маленького вишнёвого деревца. Трещали цикады, перекликались птицы, а по чёрному могильному камню бесстрашно ползла оранжевая улитка.
Старый Крым, лето 1948 года. Паломники у могилы Александра Грина
Посидели на соседнем камушке. Сфотографировались. Говорить не хотелось, а думалось одинаково, и мы это чувствовали. Лет через десять, когда я вместе с Леной, – моей женой, а в юности такой же «гринладкой», – снова побывал в Старом Крыму, могила сохранила свою изначальную архитектуру, но была качественно обновлена – новые стела, портрет, табличка. Да, всё почти то же, однако прежняя могилка, грустновато-запущенная, жившая в памяти, неохотно уступала место новым впечатлениям… Мы гостили у Нины Николаевны, вдовы писателя. Вернувшись в 1955-м из ссылки, она восстановила могилу и домик Грина, который из года в год становился всё более посещаемым музеем. Приезжали как индивидуалы, вроде нас с Леной, так и целые молодёжные клубы с одинаковым названием – «Алые паруса». Уже не первая по счёту толстенная книга отзывов была заполнена трогательными записями. Остался в ней и мой след – стихотворение, написанное у могилы Александра Грина:
В давным-далёкие года от дел земных и бед Ушёл Дорогой Никуда мечтатель и поэт. Ушёл он тихо, как Бит-Бой – герой его новелл, Бит-Бой, обиженный судьбой водитель каравелл. Могильный камень и портрет остались от него... Могильный камень и портрет? И больше ничего? О, нет, позвольте возразить, позвольте возразить! Кто славил жизнь, тот будет жить, тот вечно будет жить. Неукротимый бег часов дано ему презреть – Создатель «Алых парусов» не может умереть. В весенней ветреной листве живёт его язык, А сердце ожило в траве, и там родник возник. Куда же делась кровь его и слёзы где его? А море, море из чего? Я знаю из чего. Его мечта, как Фрези Грант, на вахте каждый час И, проявляя свой талант, спасать готова нас. Мечта шагает по воде, по воздуху плывёт, Она – во мне, она – в тебе живёт и не умрёт!…
С Ниной Николаевной мы переписывались до самой её смерти. Дружили в Ленинграде с семьёй Бориса Степановича Гриневского – младшего брата писателя и с Леонидом Ильичом Борисовым, автором «Волшебника…». Но всё это было потом… А сейчас, вдоволь посидев на кладбище, мы с Кармалиным отправились на ночлег, в сельскую гостиницу, именуемую, как и все подобные, «Домом колхозника» – рубль койко-место. На следующий день отыскали пожилую, сгорбленную школьную библиотекаршу и от неё узнали судьбу Нины Николаевны и судьбу гриновского домика. Немцы, мобилизуя население на работу, заставили Нину Николаевну, филолога по образованию, работать корректором в местной газете. Когда вернулись наши, её, понятное дело, загнали «куда Макар телят не гонял». Упоминание о телятах косвенно соприкасается и с послевоенной судьбой дома. Местный князёк Аралов, – то ли секретарь райкома, то ли председатель райсовета, – держал в пустующем доме свою корову! (Вещички и мебель разобрали соседи. И спасибо им! Когда возвратилась Нина Николаевна, эти вещи стали основой для музея, созданного её трудами). Сопровождаемые нашей сгорбленной, но полной энергии проводницей, мы заглянули сквозь настежь распахнутые двери внутрь бывшего гриновского домика. Коровий дух ещё не выветрился. Горкой навалены использованные бинты, вата, гипс. Их выносили сюда из сельской больницы – вывозить хлопотно, да и зачем, если рядом есть пустой хлев?.. К морю, в Судак, добрались снова грузовиком. Посетили старую, но хорошо сохранившуюся генуэзскую крепость и пустились-таки в пеший поход от Судака до Ялты, прямо по берегу, преодолевая иногда и труднопроходимые участки. Консервы съели в первый же день. Ночевали на берегу, укрывшись за скальным выступом. Прятались потому, что побережье являлось погранзоной – как же, Турция неподалёку, всего лишь за морем!.. Крым был в запустении гораздо большем, чем могила Грина. Вместо недавно выселенных крымских татар загнали сюда крестьян из средней полосы. Акромя картошки да лука, никаких сельскохозяйственных культур они не ведали и ведать не желали, виноградники зачахли, сады стали дичать. Даже поднявшись в гору, к бывшим татарским селениям, мы не смогли купить хлеба или ещё чего-нибудь съедобного. По записке председателя колхоза, бывшего фронтовика, разжились двумя килограммами недозрелых груш: «Для флота выдать по госцене, по полтиннику». Решили питаться мелкими крабами, снующими в прибрежных камнях. Наловили, развели костерок и сварили – вот умники – в остатках имевшейся пресной воды, да ещё и всю соль на варево извели. Это вместо того, чтобы просто залить в котелок морскую водицу!.. Близ Алушты, гонимые жаждой и стремлением поспать не на камнях, а на чём-нибудь помягче, снова поднялись в гору и уже затемно постучали в ближайший приличный на вид дом. Хозяйка – школьная училка, симпатичная, лет двадцати пяти- тридцати, одинокая, без тени сомнения пустила переночевать. Накормила и разместила на чердаке, снабдив матрасами и простынями. Полночь, сквозь треугольник чердачного окна виден чёрный ковёр южного неба с вышитыми на нём золотыми звёздами. А у нас медленно оплывающая свеча и блаженное предчувствие отдыха после двух суток пешего пути. – Может, рискнуть, спуститься к хозяюшке?… – сонно произнёс Кармалин, хотя мне-то было ясно, что он и шагу ступить не может от усталости. И тут скрипнула приподнявшаяся крышка люка, и хозяйка сама явилась нашему взору в виде поясного портрета в ночной сорочке, явно встревоженная. – Мальчики, извините, мне как-то не по себе. У нас положено сообщать о постояльцах пограничникам. Ну вот, я сбегала в школу, позвонила на заставу, говорю, морячки, отпускники. А начальник поблагодарил и сказал, что пошлёт проверить, что за люди. Вот я и думаю, не подвела ли вас, всякое ведь бывает. – Нет, нет, у нас всё в порядке! Спасибо Вам и спокойной ночи. А у самих сон, как рукой, сняло – ведь пограничники мгновенно «расколят» кармалинскую фальшивку. Но и уходить сейчас нельзя, да и некуда. Может, до утра не придут? А мы смотаемся на рассвете. Глаза закрывали с тревогой, но спали спокойно – проснулись только в десять. Нашли внизу записку от хозяйки: что поесть и как закрыть дверь, если уйдём до её возвращения. Раз пограничники не взяли нас тёпленькими, особо спешить не стали, чувствуя себя под охраной провидения. Поели. В стихах поблагодарили хозяйку за приют. Заперли дом и двинули вниз, к причалу, разумно решив, что до Ялты лучше добираться катером. Пассажиры выстроились в очередь. И мы встали. А когда началась посадка, возле трапа, переброшенного на рейсовый катерок, появился солдат-пограничник – проверка документов!.. Но оказалось, это не нас отлавливают, как подумалось сначала, здесь всегда такая процедура. Решили рискнуть, авось проскочим, больно уж хотелось пройтись морем. Я подставился первым. Солдатик бумагу рассматривал внимательно. Пришлось притормозить на трапе, и когда Кармалин подал свою ксиву, малость отвлечь служивого: – Друг, подскажи, морем дойдём быстрей, чем на автобусе? – На трапе стоять нельзя, проходите! Кармалин решил, что это относится и к нему, и сноровисто выхватил свою бумаженцию, так и оставшуюся полупроверенной. Домой возвращались с пересадкой в Москве. Повидались с Логиновым и Цыбиным. Забрали подлинный, хотя и давно уже просроченный кармалинский отпускной. И никаких приключений, если не считать посадки в поезд Москва-Ленинград. Почему-то у нас оказался только один билет на двоих. И не то, чтобы проводники были тогда совсем уж неподкупными, просто не нашлось средств, чтобы проверить нашего, вполне конкретного. Зато нашлась сигара. С ней в зубах, так и не зажженной, я несколько раз входил и выходил – короче, примелькался. В удачно выбранный момент с этой же сигарой и в моей бескозырке в вагон вошёл Кармалин (его собственная бескозырочка имела жористо-блинчатый вид и сильно отличалась от моей – классической). Сигара и бескозырка через окно вернулись ко мне на перрон. – Скоро ли трогаемся? – безмятежно спросил я у проводника, пожевывая сигару. – Поднимайтесь, сейчас поедем. Сигару выкурили уже на ходу. Постельное не брали. Спали по очереди, пока не нашлась ещё одна свободная полка. Кармалин, погуляв в городе с неделю, запасся больничной справкой и явился в училище вместе со всеми отпускниками. На счастье, в отпуске оказался и его командир роты. Никто вопросов не задавал – прибыл без замечаний, ну вот и отлично.
О ТОМ, КАК МЫ С ВОВОЙ НАНИМАЛИСЬ В РАЗВЕДКУ
Эта глава будет непропорционально короткой, потому что в ней рассказывается о единственном (увы, увы!) эпизоде позитивного, «плюсового» взаимодействия с органами ГБ, то есть о том уникальном случае, когда никто меня не вызывал, никто не ловил – сам пришёл, по доброй воле и с добрыми намерениями... Но лучше по порядку. На третьем курсе подготии я, как и многие, стал задумываться: кем же, конкретно говоря, я хочу быть на флоте? А может быть, и не на флоте? Ведь скоро предстоит переход в иное качество – зачисление на один из факультетов высшего училища, и избранная специальность станет необратимым, не поддающимся изменению (как тогда думалось) делом всей жизни. Автоматически оставаясь в своём училище (оно к этому времени уже превратилось в высшее и лишь доучивало последних «подготов»), я мог стать либо штурманом, либо артиллеристом, либо минёром-торпедистом. Последнее для меня было привлекательней (см. главу первую!). Но была и другая возможность – попроситься в какое-то другое военно-учебное заведение, с каким-то совсем иным профилем, вплоть до военно-медицинской академии. Об академии упомянул для красного словца, туда меня и палкой было бы не загнать. А вот некоторые иные специальности… нет, шире – некоторые иные теоретически возможные направления будущей деятельности, меня интересовали, и даже очень. По-свойски закрывая глаза на свои минусы (ведь они, в принципе, поправимы!) и оценивая свои плюсы – изобретательность, способность к психологическому анализу, и т.д, и т.п, в том числе и высокий «коэффициент удачливости» (показатель используемый американскими кадровиками), я счёл себя не только расположенным, но и пригодным для работы в органах разведки… или, на худой конец, контр-разведки. Мои правонарушения, розыгрыши и «завирушки» во имя достижения желаемых результатов представлялись не как препятствие, а как полезный тренаж для такого же рода действий, но за рубежом и во имя высоких целей. У абсолютного большинства из нас понятие об «органах» было туманным и романтическим. Туманным потому, что мы не имели представления об их реальной структуре и работе. Романтическим потому, что «чекисты» (пропагандистский собирательный термин), вопреки каким-то слухам, а то и прямым жизненным наблюдениям, представлялись нам (мне, по крайней мере) рыцарями справедливости, умело и мужественно защищающими интересы нашего государства. И вполне серьёзно воспринимались слова Маяковского (цитирую по памяти): «Юноше, обдумывающему житьё, ищущему делать жизнь с кого, – делай её с товарища Дзержинского». Немалую роль играли и кинофильмы, в особенности блистательный по тем временам «Подвиг разведчика». Чтобы не показаться таким уж глупым и незрячим, чуть подробнее о негативных «слухах» и «жизненных наблюдениях». Конечно, я знал то, о чём дома предпочитали не говорить – один из четырёх маминых братьев – дядя Шура – сгинул в 37-м. И многие, очень многие были репрессированы тогда. Кто за причастность к какой-то, вроде бы, контрреволюционной деятельности (троцкисты и всё такое прочее), кто – и это воспринималось как несправедливость – всего лишь за отдалённое знакомство с этими «контрреволюционерами». Знал, что по какой-то неведомой причине оказались вражески настроенными многие крупные военачальники, в том числе герои Гражданской войны (ещё в младших классах мы заклеивали или зачёркивали в учебниках их портреты). Про брата Шуру мама говорила «Он хороший, честный человек, он не мог быть врагом народа, его подставили, втянули во что-то». Но даже у неё не появилось мысли, что могли схватить просто так, для счёту, по разнарядке. Отец, конечно же, знал о происходящем если не всё, то почти всё. В 35-36-м он был откомандирован для усиления охраны в «Дальлаге», мы приехали к нему и почти год жили в городе с необыкновенно подходящим для лагерного центра названием – «Свободный». Мама работала в лагерной больничке. Однажды заключённый, будучи на приёме, шепнул: «Доктор, я вижу вы добрый, порядочный человек. Умоляю, отправьте с воли письмо моей семье. Здесь сказано только, что я жив, люблю их и где нахожусь… домашний адрес простой, Вы запомните». Мама побледнела и отрицательно покачала головой. «Тогда хоть не докладывайте». Мама утвердительно кивнула. И потом всю жизнь мучилась, оправдываясь перед собой: «Я не могла – а вдруг провокация, ведь такое бывало… а вдруг поймали бы, а у меня маленький сын и старая мать…» Наш отъезд из Свободного был внезапным, можно сказать ураганным. Как я узнал много позже, друзья из лагерного начальства сказали отцу, что освободилось местечко на «материке» и сматываться надо быстро, поскольку есть донос о его приятельских контактах с некоторыми заключёнными, бумага пока под сукном, где и останется, если он исчезнет. Вот уж точно – «не имей ста рублей, а имей сто друзей». Его роман с органами был краткосрочным. Окончив в 41-м академию Фрунзе, он ушёл на фронт командиром батальона, а в 45-м довоёвывал, сильно прихрамывая, как офицер военных сообщений. В политике и идеологии он меня никогда не просвещал – не хотел усиливать разлад между моим комсомольским видением жизни и реальным её содержанием. Как-то я спросил, а не податься ли мне в разведку или контрразведку? Ответ был лаконичным: «Я думал, что ты умнее!». Вот и выходит, что я был не совсем уж чистым листом, на котором можно писать любые призывы и лозунги. Знал об убиенном Гумилёве и других невинных жертвах красного террора. Не был убеждён, что при «рубке леса» непременно должны «лететь щепки». Слышал нелестное о заградотрядах… Да много ещё разного видел и слышал. Но всё это воспринимал как случайные или временные огрехи и искажения. Вот же расстрелял Сталин Ежова за необоснованные репрессии. Был бы жив Феликс Эдмундович – не было бы и нарушений законности… А как ярко и убедительно описывались в книгах и изображались в фильмах подвиги истинных, ничем не запятнанных чекистов… Разве можно этому не верить? Примерно такой была морально-идеологическая подоплёка всё более вызревающего решения. А вот и конкретика действий. Среди приятелей-сокурсников, в ходе разговоров «за жизнь», обнаружился человек, думающий так же или почти так же, как я, и озабоченный той же проблемой – кем быть, «…чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…» (Сверстники знают откуда эти слова, а вот внук Никита навряд ли – Николай Островский, «Как закалялась сталь»). Единомыслие приводит к единодействию. И пошли мы с Вовкой Браиловым «наниматься в разведку». – А, Биг Карамора!– негромко, но внятно сказал майор, когда мы предстали перед ним. Не знаю уж что подумал Вовка – может, счёл, что это моя агентурная кличка, может, решил, что особист чертыхнулся по-испански. В общих чертах изложили свои соображения и попросили совета – как попасть в учебное заведение по развед или контр-развед профилю? – Каковы ваши цели? – спросил майор. Мы в два голоса: – Служить Родине... добывать зарубежные секреты… или ловить шпионов… И работа яркая, интересная, требующая напряжения всех сил… – Совета желаете? Ладно, будет вам совет. Во-первых, чтоб вы знали, тех, кто просится, в органы не берут, это аксиома. Людей мы выбираем сами. Сами выбираем и тех, кто просто помогает нам информацией… Хотите докладывать про своих товарищей? Ответа не жду, и так знаю, что не хотите. А хотите всю жизнь копаться в чужих личных делах, выискивая компроматы? – он горячился всё более и более. – А в разведке, если уж вам так не повезёт, и вы в неё попадёте, хотите всю жизнь шарахаться от собственной тени и быть под колпаком, чужим или своим, без разницы?.. Это надо же, они хотят ловить шпионов!.. Болтунов – сколько угодно, инакомыслящих – пруд пруди, а вот по «шпиёнам», извините, недостача, можно за всю жизнь не увидеть ни одного. Лично я видел троих уже пойманных… вот только не уверен, что они шпионы… Он понял, что наговорил лишнего, и после паузы, подвёл итоги: – Вот что я вам скажу. Оставьте свои детские помыслы, основанные на незнании. Вас ждёт благородная, духовно чистая морская служба, что может быть лучше. Я завидую вам светлой завистью, поэтому и предостерёг. Вы парни порядочные и, надеюсь, не позабудете, что такого разговора у нас с вами н е б ы л о. Мы поблагодарили и покинули кабинет умного и смелого человека. В 1949 году разговор, «которого не было», мог дорого ему обойтись. Главное, что подействовало на меня, да и на Вовку, думаю, тоже – безрадостная технологическая картинка: пожизненное копание в бумагах в поисках компроматов… А разведка, она ведь как театр – на одного известного актёра, играющего главные роли, приходятся толпы актёров-неудачников… В результате подобных мыслей мои мечты о подвигах на незримом фронте довольно скоро улетучились. И на вопрос, поставленный в предисловии – каковы же в принципе мои отношения с органами госбезопасности, я в краткой форме ответил бы так: «Соприкасался, но не вляпался». О некоторых соприкосновениях я уже написал, а о более жестких расскажу в последующих главах.
О ТОМ, КАК Я ЧУТЬ НЕ СТАЛ ТЕРРОРИСТОМ
Среди моих подруг не числилось разведчиц и контрразведчиц (банальные стукачки не в счёт), стало быть, отношения с девушками не подпадают под тему повествования, и писать про них не следовало бы. Но в этой главе придётся сделать исключение, иначе не будут понятны зигзаги моего летнего путешествия в 1949-м, по окончании подготии. Весной упомянутого года я познакомился с Леной и в одночасье отошёл от Риммы, которая занимала мои мысли и сердце в течение двух лет. Нас с Леной связывало общее увлечение Грином. Но не только. У каждого человека есть скрытая сигнальная система, нечто вроде самолётного автоответчика «свой-чужой», так вот наши ответчики дружно сигналили: «Свой! Свой! Свой!». В июле Лена, окончив, как и Римма, первый курс Холодильного института, уехала в Пятигорск, где жили её родители. А я несколькими днями позже выехал в Тбилиси с намерением пройти по Военно-Грузинской дороге. С Леной никаких договоренностей не было, но, видимо, существовал телепатический контакт. Иначе откуда бы пришла мысль о том, что ВГД имеет, в сущности, две точки, которые можно считать началом пути – одна в Закавказье, вблизи от Тбилиси, другая – в Северной Осетии, неподалёку, от Пятигорска… Одним словом, на ближайшей станций я дал Лене телеграмму, которая, прямо скажем, не очень-то соответствовала статусу наших едва зародившихся отношений: «Предлагаю совместный поход по Военно-Грузинской, ответа жду на станции Кавказская, востребования». Кавказскую выбрал потому, что "железка" там раздваивается – направо в Закавказье, налево – на Северный Кавказ. Сошёл с поезда и стал ждать ответа, чтобы в зависимости от «да» или «нет» поехать либо налево, либо направо. Ответ пришел к вечеру: «Ждём в гости, остальное решим совместно». Утром я уже был в Пятигорске. Формула «совместно» предусматривала, оказывается, принятие решения… совместно с родителями! Разумеется, совсем ещё юную девушку не отпустили в путешествие с каким-то мореманом, пусть даже симпатичным. Но я с удовольствием гостил у них целую неделю. И всю неделю наши с Леной автоответчики беззвучно сигналили: «Свой!».
Пятигорск, 1949 год. «Свой, свой, свой…»
Автобусом выехал в Орджоникидзе, и началось девятидневное путешествие по горной дороге, в те времена ещё не вполне обихоженной. Вот тут самое время пригласить понятых и поговорить на тему «А что у вас, ребята, в рюкзаках?..» В рюкзаке моём был пистолет «ТТ», без щёчки на рукоятке, но зато с полной обоймой патронов. И был весьма внушительный финский нож. Пистолет я приобрёл у моего однокашника Вальки Бидякина (надо ли говорить, что фамилия вымышленная?). При этом он клялся-божился, что «пушка служебная и крови на ней нет», а я в том, что и под пыткой не назову его имени. Зачем был нужен пистолет? Во-первых, к этому призывала моя неизменная платоническая любовь к оружию («платоническая» потому, что смотреть на оружие, а то и поглаживать, люблю, а вот чистить – нет). Во-вторых, уже планировался поход по ВГД, а там ведь всякое может приключиться. И приключилось! Перемещался я попутками и потому флотскую форму почти не снимал. В селениях, где были турбазы, останавливался и совершал радиальные вылазки. Так вот однажды, на горном пастбище, меня атаковали две здоровенные кавказские овчарки. Одна, скаля клыки, наседала спереди, другая норовила зайти сзади. Пистолет очень пригодился бы – хоть вверх пальнуть, для острастки. Но «ТТ» тяжеловат, да и кобуры не было. Зато был прихваченный из того же рюкзака пластмассовый пугач, похожий на «Вальтер». Пугач на собак впечатления не произвёл, форма тоже. И фотоаппарата я на сей раз не взял, отмахиваться было нечем. Единственное, что сдерживало собак – мой взгляд и ответное рычание. Хозяин издали кричал что-то, руками махал. Я на секунду отвлёкся, буквально на секунду, и одна из псин, вероятно сучка, проскользнула-таки за спину и мигом прокусила левую икру. …Хозяйка бинтовала мне ногу, приложив какую-то травку, потом штопала брюки. Мальчонка лет шести напяливал на голову белый чехол, в котором я ходил вместо бескозырки. А хозяин готовил шашлык, время от времени выкрикивая: «Застрэлю стэрву, морячка покусала!». Я его успокаивал: «Генацвале, не надо, собака выполняла свой долг». Впервые пил вино из рога. Расстались друзьями. Я подарил мальчишке игрушечный «Вальтер», а хозяин пытался подарить мне барана. Дорога всегда куда-нибудь приводит. Меня она привела сначала в Тбилиси, а потом… в Краснодар, расположенный отнюдь не по пути домой. Этот зигзаг связан со второй девушкой, упомянутой в начале главы. Незадолго до описываемых событий Римма осиротела – в Краснодаре умерла её мама. Но осталась тётя. К ней-то Римма и поехала в отпуск, имея намерение провести пару недель на море, в Анапе, до которой от Краснодара рукой подать. Я твёрдо знал, что мы с Риммой безвозвратно расстались, но хотел сделать для неё что-то доброе и памятное (это «гринландские» штучки, конечно!). Вот и надумал тайно сфотографировать дорогую ей могилку и уже в Ленинграде подарить фотокарточку, как бы на прощанье. При этом в Краснодаре на глаза Римме попадаться нельзя, она не так поймёт мой приезд, да и сюрпризного эффекта не будет. Но самому мне могилу не найти, придётся привлечь Риммину тётю, уговорив её всё держать в тайне. А прежде всего надо убедиться, что Риммы нет в городе. Это не сложно: если часов до одиннадцати Римма не выйдет из дому, значит она в Анапе, и можно заглянуть к тётке. Адрес я знал. Точнее – предполагал. Книжица с адресами осталась в Ленинграде, а по памяти – улица Красная 39… или 59… Уточнение я ещё вчера запросил телеграфом у мамы, указав, где лежит записная книжка. Ответ должен прийти на главпочту. А пока буду высматривать Римму возле наиболее вероятного дома 39. Необходимо замаскироваться, чтобы она не опознала меня, если случайно увидит… Вот такой была детально продуманная схема действий.
«Агент 007» в Краснодаре. Лето 1949 года
Приехав в Краснодар на рассвете, поселился в общем номере гостиницы на той же Красной, которая оказалась главной улицей города. Номер шестиместный, пятеро постояльцев проснулись и с некоторым удивлением наблюдали за моими таинственными манипуляциями – то есть за процессом маскировки. Форма снята. Флотские брюки, конечно, остались, других не было, но их прикрывала рубаха навыпуск. Гвоздь программы – широкополая войлочная панама, вроде мексиканского сомбреро, и огромные тёмные очки. Заметив повышенное внимание и понимая, что меня принимают за маскирующегося агента, я охотно стал «работать на публику»: вырезал кружочек из лейкопластыря и наклеил на щёку, как бы прикрывая порез или прыщ. И последний жирный мазок: свой фотоаппарат – хорошо знакомую Римме «Экзакту» – я засунул в свежую наволочку, обнаруженную здесь же, на подушке, а горлышко этой самодельной сумки перевязал бинтом. Придирчиво осмотрелся в тусклом настенном зеркале… Мог ли я подумать, что этот спектакль окажется для меня спасительным!.. Элегантно бросив своим сожителям «До вечера!», занёс рюкзак в гостиничную камеру хранения и вышел на улицу во всей своей красе, с наволочкой в руках. Было восемь утра. Народ на меня не оглядывался – мало ли чудаков по улицам бродит. Дом 39 оказался неподалёку, всего в двух кварталах. Кирпичный, трёхэтажный, казавшийся небольшим по сравнению с серым массивным зданием, расположенным рядом. И что хорошо – выход со двора только один, через ворота. Если объект наблюдения пойдёт утром на реку или на рынок, то непременно "засветится". Потоптавшись на улице с полчасика, приметил вблизи молочное кафе и решил позавтракать, не прекращая наблюдения – окна выходили в нужную сторону. Прежде, чем зайти в кафе, извлёк фотоаппарат и сделал пару хроникальных кадров – улица, дом, ворота, и снова аппарат в мешок. Едва принялся за яичницу, в кафе зашел милиционер и прямо ко мне. Я думал, хочет позавтракать в приятной компании, даже стул навстречу подвинул, но он присаживаться не стал, а сказал, слегка наклонившись: – Извините, вы не могли бы пройти со мной? – вежливый такой. – Вы же видите, я завтракаю. – Да, да, конечно, я подожду, – и он вышел на улицу. Вскоре вышел и я. Без лишних слов протянул ему мятую, потрёпанную на сгибах бумаженцию – мой отпускной. Вот, дескать, «Читайте, завидуйте, я гражданин в/ч шесть-два, шесть-пять один!». Уважительности в нём ещё более прибавилось: – Это совсем рядом и всего-то на одну минутку, прошу Вас, пройдёмте. – Кому и зачем я понадобился? – Да тут вот, полквартала, и всё объяснится. И привёл он меня в центральное отделение милиции. Зашли в кабинет к какому-то капитану, и вежливый милиционер доложил: – Этот гражданин, а может, не гражданин, а военный, скрытно фотографировал обком партии. Аппарат в мешке спрятан, женщина шла по улице, всё видела и подсказала. И началось! Капитан мне про обком, я ему про Римму. Всё рассказал – и кто я, и зачем, и почему маскировка, и про возможную путаницу с адресами, и как зовут моих друзей в Ленинграде. Но доверие не стопроцентное – уж больно всё выглядит опереточно. Хотя, возможно, мой внешний вид был больше на пользу, чем во вред. –Посидите здесь, будем проверять. И плёнку проявим, и тётю найдём. Кстати, как её фамилия? А я и не знаю. И номера квартиры не помню, на мамину телеграмму вся надежда. В этот момент откуда-то из внутренних помещений появился солидный мужик в гражданском. Окинул меня орлиным взглядом. – Почему посторонний человек в рабочей комнате? – Временно задержанный. – Почему не в обезьяннике? – Он военнослужащий. – Почему не в комендатуре? – А он ничего не нарушал, обком партии фотографировал, но утверждает что случайно, якобы его интересовал соседний дом… курсант из Ленинграда… остановился в гостинице. Мужик обернулся ко мне: – Зачем обком фотографировали?! Оскорблённый упоминанием про «обезьянник», ответил ему грубовато: – Когда один разбирается, надо ли ещё кому-то вмешиваться? Теперь разозлился мужик. Приказал капитану, принявшему стойку смирно: – Выяснить всё! Проверить вещи в гостинице, – и удалился, не глядя на меня. Я обмер: в рюкзаке пистолет и нож… А тут ещё капитан комментирует текущие события: – Это генерал, краевой комиссар, зря Вы его зацепили, он у нас памятливый. Иногда капитан выходил, давал кому-то отрывочно слышные распоряжения. А я сидел, делая вид, что читаю газету. Но сосредоточиться не мог – ждал, что сейчас вот войдут, доложат, и всё ясно – террорист… Плёнку проявили. Ничего предосудительного, кроме, конечно, обкома, попавшего в кадр наряду с интересовавшими меня воротами. Часа через два появился милицейский старшина с докладом о том, что в доме 39 ни ленинградской студентки Риммы, ни подходящей тётки никто не знает. Я понял, что настал момент переломить судьбу и попросился на почту, за телеграммой: может, дом не 39, а 59. Но красной строкой только одна мысль – бегом в гостиницу и спрятать оружие. Как ни странно, капитан отпустил, и даже документ вернул – иначе на почте делать нечего. До чего доверчива наша милиция! Бегом сразу нельзя, метров тридцать прошел не спеша. И вдруг в голове совершенно отчётливо: « Стой, стой, не ходи туда!». Я остановился. Спросил у кого-то, где главпочта. Она оказалась совсем в другой стороне. Развернулся и пошел за телеграммой. Ура, ура! – действительно, дом 59, и номер квартиры имеется. Принёс эти трофеи капитану, а вслед за мной вошел неприметный парень в гражданском. – Ну, как?.. – с улыбочкой спрашивает капитан. – Сначала подался в другую сторону, потом узнал где почта. Всё в норме. Когда парень удалился, капитан пояснил: – Это наш стажёр. Решил малость потренировать его. Заметили хвост? – Нет, но я не оглядывался, не было в этом надобности. Ещё через час капитан отпустил меня пообедать. Вот тут уж я прямиком ринулся в гостиницу. Изъял из рюкзака тяжеловесный пакет (всё обёрнуто газетой и засунуто в майку) и поднялся в номер, где никого из сожителей не оказалось. Куда спрятать? Хотел под подушку, но услышал в коридоре шаги и сунул в прикроватную тумбочку, под какое-то старое бельё. Вошли двое сожителей, и видно было, что уходить не собираются. А мне надо поторапливаться. Так пакет и остался в тумбочке. Перекусил здесь же в гостинице и возвратился в милицию, довольный собой и с уверенностью, что проверка личности вот-вот завершится. Капитан беседовал с какой-то женщиной. Тотчас спросил, знает ли она меня. – Да, видела на фотокарточках, Римма показывала, – и она приветливо мне улыбнулась. Капитан поинтересовался деталями, в том числе знакомы ли ей имена, перечисленные мною в качестве наших общих с Риммой приятелей – Кармалин, Чигиринский, Гаврилов, Эренбург, Борис Козлов. Она подтвердила, что слышала про таких. Подтвердилось и то, что её племянница сейчас в Анапе. Я тоже получил возможность поговорить с Римминой тёткой. В двух словах ознакомил со своим замыслом, объяснил причину, по которой оказался в милиции. Договорились, что я зайду, и соседская девочка проводит к могиле. Пообещала, что Римме ни слова. Ещё через час меня отпустили и даже с извинениями. А я сказал, что обид не имею, понимаю – бдительность необходима. И особо поблагодарил капитана за то, что свёл с Римминой тёткой. С лёгким сердцем пришел в гостиницу, поднялся в номер. Там были четверо из пяти. Разговор резко оборвался, они уставились на меня, как на привидение. И я мгновенно понял, что неприятности не закончились, а только начинаются. Действуя по наитию, автоматически, ринулся к тумбочке. Ни белья, ни пакета. – Где моё оружие?! – Так это Ваше? А тут уж подумали, что предыдущий постоялец, возможно бандит, позабыл под грязным бельём… – Я спрашиваю, где оружие, а не что кто-то подумал. – Да только что уборщица понесла к директору, на первый этаж. И как это я не сломал шею, опрометью летя вниз через три ступеньки! …Так бежать довелось только дважды. Во второй раз на практике в Полярном, когда убегал по крутым скалам от армейского патруля, прихватившего меня с давно просроченной увольнительной, выписанной на имя Лёхи Кирносова. Достигнув причала, спрятался в трюме какой-то баржи, среди мешков с цементом, а матросики направили патруль дальше, к соседним кораблям. Лёху, предупреждённого мною, на следующий день повезли на опознание. Мы с ним примерно одинаковой комплекции, но патрульные единодушно заявили: «Нет, не он, тот был маленький и очень вёрткий!»… Когда я без стука ворвался в директорский кабинет, восседавшая в кресле дама лет тридцати пяти держала возле уха телефонную трубку и набирала номер. – Оружие у Вас? – выдохнул я, не переводя дыхания. – А я в милицию звонить собралась, – сказала дама и повесила трубку. Значит, всего нескольких микросекунд отделяли меня от катастрофы. – Разрешение есть? Предъявите. – Я курсант военно-морского училища… вот мои документы… а разрешения нет… путешествовал в горах, это для самообороны… – Откуда у Вас пистолет? – Взял у отца… из сейфа… он полковник. – На моё счастье эта серьёзная, но очень миловидная дама не знала, что далеко не у всех полковников есть домашние сейфы, а если и есть, то в них не лежат старые пистолеты без щёчки на рукоятке. – Да понимаете ли что Вы натворили? Вы не только себя подставили, но и отца, который всю войну, наверное, прошел?.. И меня подставили. Я обязана сообщить, это мой долг, но я же знаю, чем это кончится для Вас и Вашего отца… Не простым был дальнейший разговор. Она колебалась. И отпускной мой ей не нравился. Спросила, есть ли у меня ещё что-нибудь, удостоверяющее личность. Порылся – ничего, разве что телеграмма от мамы и вырезка из училищной газеты – статья «Ровесник революции» с портретом Щёголева. Протянул ей и то, и другое, объяснил, кто такой Иван Сергеевич Щёголев. – Человек, который носит с собой портрет командира, не можете быть плохим… – убеждала она скорее себя, чем меня. – Рискну, отдам… Благодарите судьбу, что такая добросердечная дура попалась… и никому не показывайте. Но она не знала, что наверху в напряжённом ожидании четверо, а я знал. По лестнице пистолет и нож нёс в газетке, а в номер вошёл, поигрывая этими предметами. Народ сразу всё понял – конечно же, есть разрешение, а род моей деятельности они ещё утром угадали. Для порядка дал им вечерний спектакль – снова наклеил кружок из пластыря, снятый в милиции за ненадобностью, аппарат перезарядил, но прятать не стал, на грудь повесил. Когда уходил, встретил в коридоре пятого сожителя. Он приветливо кивнул, я тоже и даже улыбнулся, догадываясь, что ему сейчас наговорят остальные! Оружие снова заложил в камеру хранения – раз не проверили, то уже и не станут. И быстренько к Римминой тёте – солнце склонялось к горизонту. Соседская девочка привела к могиле уже на закате, снимать пришлось на максимуме выдержки. В гостиницу решил не возвращаться до глубокой ночи. Побродил по городу, пошел в кино на последний сеанс. Когда вернулся, все пятеро спали, похрапывая. Попросил дежурную разбудить в пять утра, чтобы смыться из гостиницы пораньше. Но дежурная разбудить позабыла, проснулся около восьми вместе со всеми. Опять вынужденный «макияж» на скорую руку, для поддержания престижа, и на выход. Но заметил, что тот, пятый, тоже быстро-быстро одевается. Это слегка встревожило. Иду по длинному коридору и слышу – точно, догоняет. Поравнялся, пошел рядом. Значит, разговор и не случайный, я опять на грани катастрофы… и директриса тоже… – Что же ты, корешок, с оружием так небрежен?.. Я из ростовского… – он достал из нагрудного кармана красную книжицу, раскрыл на секунду и снова сунул в карман. – А я из ленинградского… – полувраки лучше полных врак, можно ведь добавить, что из «Ленинградского подготовительного». Молчать нельзя, автоматом гоню банальщину: – Да, друг, глупо получилось… и на старуху бывает проруха… но всё хорошо, что хорошо кончается… наука мне будет!.. Шаг, ещё шаг, нутром чувствую, он не удовлетворён – книжицу мне показал, а я ему нет, ещё секунда и попросит. Резко останавливаюсь, с досадой хлопаю себя по бокам: – Ё-моё! Рубаху не отдал в стирку. Извини. И спасибо тебе! – разворачиваюсь и ухожу решительно и быстро. А он стоит и думает. И я точно знаю его мысли: «Оружие ему вернули… и все эти фокусы с переодеванием… вроде наш, хотя молодой и неопытный… но книжечку не показал… остановить что ли… так подумает, что я его заложу… а он спасибо сказал…». Тем временем я скрылся за поворотом и на цыпочках, по ковру, побежал к другой лестнице. Схватил в камере хранения рюкзак, через чёрный ход выскочил на улицу, прямо на зелёный огонёк такси. «На вокзал!..». Закомпостировал билет. Поезд на Москву через 15 минут. Они мне показались чудовищно длинными. Тронулись!.. Только в вагоне до конца понял, что вновь побывал на минном поле и вновь касался смертоносных усиков прыгающей мины. Это был второй самый страшный день в моей жизни, точнее не день, а целые сутки. Денег не осталось совсем, но меня охотно кормили попутчики… как и мы с Леной делаем это сейчас, когда в купе оказывается демобилизованный солдатик или матросик. Фотокарточка получилась темноватой, но всё-таки получилась. Римма была благодарна и очень удивлена – тётка и впрямь ей ничего не сказала. О драматической истории снимка рассказывать не стал – «гринландцы» не кичатся подвигами. Пистолет хранил дома. В том же году его обнаружил отец и, понятное дело, решил уничтожить. Мама пыталась остановить, причём вполне в духе времени: «А вдруг наш сын тайно служит в органах?» Отец решительно отверг эту гипотезу: «Тогда пистолет не был бы в таком безобразном состоянии!». И разобранный на части «ТТ» нырнул в Фонтанку. Я много раз собирался поехать в Краснодар, чтобы отыскать и поблагодарить спасительницу-директрису. Но флотские пути-дороги пролегали в стороне, так и не поехал. И до конца жизни буду об этом сожалеть.
НЕРПЫ ИМЕЮТ ДОБРОДУШНЫЙ ВИД
Летом 1956 года ледовая обстановка на Севморпути была крайне неблагоприятной. Мы на полтора месяца застряли возле острова Диксон. Мы – это ЭОН-56, Экспедиция Особого Назначения, то есть большая группа кораблей, перегоняемых на Дальний Восток. Командовал контр-адмирал В.А.Пархоменко, бывший командующий ЧФ, подаривший нам командира группы, о чём ниже, а миру трагедию «Новороссийска». Его флаг нёс крейсер «Александр Суворов». В состав ЭОНа входили три или четыре сторожевых корабля, сухогрузный транспорт, несколько вспомогательных судов, в том числе танкер и водолей, две большие лодки 611 проекта и восемь (или 12?) наших, 613-х, на одной из которых – ПЛ «С-223» – я был командиром минно-торпедной боевой части. Командир – Е.В.Семёнов, замполит – Молотков, старпом – Ухов, помощник – Кюбар, штурман – Фролов, механик – Суетенко, командиры групп – Сергеев, Лощинин, Хуснутдинов, доктор – Янишевский. Сутки длинные – солнце не заходит. Делать практически нечего, разве что за нерпами наблюдать. Есть возможность мысленно сняться с якоря и вернуться в недалёкое, но довольно бурное прошлое. Всего три года прошло после выпуска из училища, а сколько событий предшествовало великому диксонскому стоянию!.. В январе 1954-го, после отпуска, в коем я присутствовал при рождении сына, прибыл в Николаев командиром группы на новостроящуюся «С-178», к Капитонову. Но с этой лодкой на Север, а затем на ТОФ не ушёл, остался в Севастополе, на действующей «С-67», у Прибавина. Той же осенью встретил однокашников – Толю Кюбара и Аполлоса Сочихина: «Давай к нам, в формирующийся экипаж, как раз вакантное местечко имеется – командиром БЧ-2-3» (тогда на 613-х ещё стояли две пушки). Вот так я и попал на «С-223», к Евгению Васильевичу Семёнову – на лодку, которая стала родной (и сейчас все питерцы с этой лодки, кто ещё жив, встречаются и дружат). В тот период лодку достраивали в Николаеве, а мы старались подобрать приличный, знающий своё дело экипаж. Офицерских кадров ощутимо не хватало. Даже уже построенные лодки, уходившие с ЧФ на ТОФ, подчас не имели командиров групп, что осложняло жизнь. А нам, точнее сказать – мне, удалось заполучить командира группы ещё до отъезда экипажа в Николаев! Это был Игорь Лощинин, только что выпустившийся из нашего училища. В канун нового года Игорь привёз посылку для Командующего флотом – какой-то капитан 1 ранга вручил её прямо на вокзале, искал любого, убывающего в Севастополь. Вот я и сказал Игорю, которого знал ещё по прошлогодней его стажировке: «Жми к Командующему. Посылку отдашь лично ему. Он спросит, как тебе служится, лейтенант? А ты проникновенно скажешь, что хотелось бы вот попасть к своим, на 223-ю… И потом проследи, чтобы адъютант не забыл позвонить в кадры». «А вдруг Командующий не спросит, как мне служится?». «Тогда атакуй: товарищ адмирал, разрешите обратиться». Лощинин к Командующему прорвался. Разговор состоялся по второму, атакующему варианту. От любви Лощинина к друзьям-однокашникам Командующий и впрямь растрогался, даже по плечу похлопал: «Лейтенант, ты ещё молодой, мало чего в службе понимаешь. Мы стараемся как можно дальше развести однокашников, потому что, когда они на одном корабле, должного порядка не будет». Всё это Лощинин доложил мне с огорчением и с мыслью, что операция «внедрение» сорвалась. Но он не знал, что в напряжённых ситуациях дамоклианцы черпают идеи из воздуха: «Игорь, иди в отдел кадров ЧФ, найди направленца-лодочника. Назовёшь Командующего по имени и отчеству и скажешь, что когда передавал ему посылку от своего дяди, он поинтересовался где бы ты хотел служить и отметил, что отдел кадров обычно прислушивается к пожеланиям молодых офицеров». Результат превзошёл ожидания. Кадровик, капитан-лейтенант, перенося карандашиком фамилию Лощинина с одного места на другое, сказал: «Мне-то не сложно вот здесь стереть… а вот сюда записать… в приказ попадёт, но подпишет ли Командующий?». «Вот за это не беспокойтесь!» – нахально заявил Лощинин. Приказ, естественно, был подписан. Командиры лодок, уже собирающихся в «дорогу дальнюю», прибежали к кадровику бригады: «Это какое-то недоразумение, явная ошибка!». А тот молча поднял указательный палец вверх. На том и разошлись. Пытались, правда, выведать у Лощинина, какая у него «мохнатая лапа», но Лощинин загадочно отмалчивался, только руками разводил, чего, дескать, не бывает на белом свете.
1955 год. Перед выходом из Николаева
Наша жизнь в Николаеве, потом снова в Севастополе и в особенности перегон лодки в транспортном доке по внутренним путям заслуживают отдельного описания, за которое, быть может, возьмусь когда-нибудь. Название уже придумал: «Из греков в варяги». А сейчас всего лишь упомяну вкратце о некоторых эпизодах. За три дня до отплытия из Севастополя мне удалось спихнуть на одну из лодок ЧФ двух совершенно неисправимых «годков», хронических пьяниц и самовольщиков. Разумеется, они были аттестованы как золотые самородки, как опытнейшие минно-торпедные старшины, желающие остаться на сверхсрочную, но непременно на ЧФ, поэтому мы готовы отдать, хотя и со слезами. Сверхсрочники – товар дефицитный, нужные приказы были оформлены мгновенно. А "золотых старшин" я опасливо попридержал до вечера накануне отплытия. Расставаясь, проинструктировал: «Дарую вам тёплое море, горячих женщин и крымские вина. Но за это вы должны хотя бы сутки не безобразничать и делать вид, что собираетесь остаться на сверхсрочную». Сердечно поблагодарили и отправились на новую лодку, где их уже заждались. А утром, прямо перед нашим отходом, прибежал обеспокоенный помощник с осчастливленной лодки (приношу ей запоздалые извинения!): «Не у вас ли Хроменко и Движенко? Ночью исчезли! Мы подумали, прощаться пошли». Незабвенные происшествия связаны с милым нашим замполитом Игорем Ивановичем Молотковым, партийная кличка «Шрам». Он, будучи мальчишкой-сиротой, прибился в Белоруссии к партизанам. И на разведку ходил, и в боевых операциях участвовал на равных, отсюда и шрам на его красивом мужественном лице. Этот шрам был для женщин, как блесна для щук – Игорь Иванович пользовался чрезвычайным успехом, да и сам к этому успеху рвался всеми фибрами души и тела. Например, сойдя на бережок на каком-нибудь 32-м шлюзе старой Мариинки, на 34-м уже докладывал нам, что познакомился и сильно подружился с сельской учительницей. «Ну, Игорь Иванович, не томи, рассказывай!». «А что рассказывать? Мы расстались очень довольные друг другом». В интимные подробности вдаваться не любил, но мы-то знали – всё было. Политработой он не допекал – делалось лишь самое обязательное, отчётное перед вышестоящими инстанциями. Ему свойственна была некоторая несобранность, то в зимнее время кошку вместо шапки пытается на голову надеть, то ещё что-нибудь в этом роде. Так было и этим летом при переходе по внутренним водным путям. Док с лодкой, как правило, стоял на рейде в ожидании буксира. Сход на берег всему экипажу был запрещён. На шлюпке или на катере убывали лишь четверо: командир и доктор для доклада береговому начальству, комиссар – якобы для доклада и я, как избранный коллективом письмоносец и снабженец офицерской кают-компании разными яствами, отсутствующими в лодочном рационе. Сходы наши заканчивались посещением ресторана и прогулками по незнакомым городам.
Лето 1955 года. Лодка в доке под брезентом. Идём по Волге на буксире…
Так вот, в одном из волжских городов, кажется в Казани, прогуливались мы в предвечерний час по каким-то улицам. Вскоре совсем стемнело. После солнечного дня было душно. Молотков давно уже снял тужурку, нёс перекинутой через руку. «Игорь Иванович, а документы не вывалятся?». Он ощупал карман и замер, как соляной столб: «Партбилет!..» Искать не имело смысла – улицы почти не освещены, да мы и не помним, по каким шли. Но я уговорил поискать, хоть для самоуспокоения. Через полчаса на совсем вроде бы незнакомой улице я увидел на тротуаре нечто, похожее на сигаретную пачку. Пнул на всякий случай. А она и поехала по асфальту с характерным шелестом. Игорь Иванович бросился на этот предмет, как коршун на куропатку! А потом стал подпрыгивать и всех нас целовать. Пришлось повторно заглянуть в ресторан. В другой раз, в другом городе, мы уговорили Игоря Ивановича купить новые полуботинки, просто неприлично Заму ходить в облезлых, потрескавшихся, почти дырявых. Слегка дождило, поэтому он новые надевать не стал, понёс запакованными в коробочке. Вся лодка знала, что Игорь Иванович приобрёл новые корочки. На следующее утро он решил расстаться со старыми, чтобы места не занимали. Вышел после завтрака на кормовую часть дока, где полкоманды собралось на перекур. Буксир попался мощный, за доком тянулся кильватерный след. Игорь Иванович встал в позу Стеньки Разина: «Прими, матерь-Волга подарок от советских моряков!» И швырнул увесистую коробку за борт. Народ изумлённо уставился на его ноги… обутые в старые, изношенные полуботинки. А новые уплыли, стало быть, по Волге-Матушке. В Череповце служба военных сообщений (там-то она мне и приглянулась!) сообщила, что в Полярном перегруз, в этот ЭОН мы не попадаем, и нас заворачивают налево, на Ленинград. Восторг был беспредельным!.. В Питере вышли из дока и по пути в Лиепаю, где предстояло зазимовать, зашли на пару дней в Кронштадт. Упоминаю об этом не случайно – одно из ярчайших воспоминаний. Командир ошвартовался и вниз. На мостике Сочихин. На палубе ровняет концы швартовая команда. Вышли на перекур и освободившиеся от дел офицеры. А на причале толпа кронштадтских мореплавателей, пожелавших в обеденный перерыв посмотреть на пришельцев, в основном старшие офицеры. Слышны громкие язвительные реплики: «Глянь-ко, глянь – одни лейтенанты! Кто же у них кораблём управляет?» «А этот, на мостике, метр с кепкой, он не старпом ли у них?» «Труба-то у него какая, может антенна локационная?» Это они про Аполлоса Сочихина, действительно старпома, действительно невысокого, в шикарной фуражке от рижского мастера Якобсона и действительно он держал в руке огромный никелированный мегафон, созданный на заводе за литр спирта. Аполлос разобрался с обидчиками круто: «Внизу, подать воду на пожарную магистраль!.. Вооружить шланги!.. Проводим учение по дезактивации корабля и дезинфекции причала, посторонним предлагаю удалиться – обоссу!». Зеваки сочли за благо удалиться. Те, кто делал это с достоинством, оказались малость обрызганными. Как жаль, что Аполлос, на котором прямо-таки написано было, что он будущий адмирал, по болезни остался в Лиепае, а потом и совсем распрощался со службой… Но вернусь на Северный морской путь, а вместе с тем и к генеральной теме повествования. Остров Диксон не самое живописное место на Земле – невысокие серые, местами заснеженные берега. Одинокие мачты радиостанции. Городишко, точнее посёлок, с борта не виден, лишь отдельные дома различимы в бинокль. Стоять на якоре не только нудно, но и тревожно – вдруг не проскочим и вернёмся в Полярный, зимовать. И без писем соскучились, жёны пишут до востребования туда, где нас ещё нет, а может и не будет. И в этой переписке есть некоторый риск – нам категорически запрещено сообщать, где мы находимся и вообще ни слова об экспедиции, она хоть и каждый год происходит у всех на глазах, а всё равно ба-а-альшой секрет.
На рейде острова Диксон, лето 1956 года. Когда командир БЧ пляшет, командир группы должен аплодировать…
По вечерам, которые в полярный день весьма условны, все офицеры участвовали в состязании, именуемом «Первое якорное пятиборье имени Харитона Лаптева». В состав пятиборья входили шахматы и шахматы-поддавки (изобретённые мною), шашечки и шашечки-поддавки. А пятая, наиболее спортивная игра, называлась «Чапай». Для молодого поколения поясню: шашки устанавливаются сплошными рядами – «красные» против «беляков», задача щелчком по своей шашке сбить несколько вражеских. Если при этом погибнет и своя, щёлкать начинает противник. Битва многофигурная и может продолжаться час, а то и более. За победу в «Чапая» начислялось в три раза больше очков, чем за другие виды. Это потому, что шахматный уровень был очень разным, а равные шансы должны быть у всех. Командир наш считал своим прямым служебным долгом быть первым во всём, поэтому мы нередко слышали характерные щелчки, доносившиеся из его каюты по ночам – во всём нужна сноровка, закалка, тренировка! И он занял-таки первое место, отмеченное специальным дипломом.
Участники 1-го якорного пятиборья имени Харитона Лаптева. Подводная лодка С-223, остров Диксон, 1956 год. Слева направо вверху: Кюбар, Ухов, Янишевский, Загускин, Суетенко, Семёнов. Внизу: Сергеев, Игорь Иванович, Хуснутдинов
В один прекрасный день (вы уже знаете, что такое начало не к добру) с флагмана сообщили, что адмиральский катер будет обходить все лодки, командир и замполит имеют возможность сойти на берег по делам, если таковые есть. Попросился и я по делам почтовым и снабженческим – печенья и конфет купить для кают-компании. Командир разрешил, но времени для написания писем не оставалось. Я предложил соплавателям дать телеграммы. Они: «А что писать? Где мы – нельзя, когда и куда придём тоже нельзя, да и не угадаешь». Я: «Где – станет ясно из самой телеграммы, а текст может быть любой оптимистический… например, нерпы имеют добродушный вид, целую и подпись». Текст понравился, все, кроме командира, зама и старпома, быстренько продиктовали адреса, благо у меня была пишущая машинка, а тут и катер подошёл. На почте без возражений приняли одинаковый текст в семь разных адресов, в том числе и в Ставрополь, моей жене. На следующий день в обед был осуществлён очередной художественный розыгрыш. Ещё утром до чуткого слуха Лёни Янишевского было доведено, что установлена телефонная связь с флагманом, и теперь жди беды – флагманские специалисты начнут кидать всякие вводные. Поэтому Лёня не удивился, когда в обед его потребовали в центральный пост – флагврач вызывает к телефону. Надо ли говорить, что звонил я из седьмого отсека. «Товарищ Янишевский, почему задерживаете отчёт о дератизации и дезинсекции?» «Разрешите доложить, мы не получали указаний… да и нет у нас ни крыс, ни насекомых». «Вот такой документ и пришлите за двумя подписями, вашей и командира». «А как прислать?» «Пусть командир вызовет катер, начальник штаба в курсе дела». Когда Лёня вернулся в кают-компанию и взглянул на уткнувшихся в тарелки, всё ему стало ясно. Сказал, что за такие шутки всех лишит спиртной добавки к обеденному красному вину. Каково же было всеобщее изумление, когда перед ужином к нашему борту и впрямь ошвартовался адмиральский катер. Но он пришёл не за отчётом по дератизации. На катере прибыл оперуполномоченный особого отдела капитан 3 ранга Крутиков. Сперва зашёл к командиру, потом пригласил меня и предложил написать объяснительную по поводу инспирированных мною и мною же отпечатанных и отправленных телеграмм с текстом «Нерпы имеют добродушный вид». – А в чём дело? – А в том, что Вы переполошили все спецслужбы от Диксона до Москвы! Текст был воспринят как условный сигнал. Проводной связи с Диксоном нет, телеграммы передают по радио, значит на весь мир. Я написал объяснительную, в которой явно придуривался. О том, что в тихую погоду, особенно когда включаем музыку, возле борта появляются нерпы – добродушные симпатичные животные. Поэтому текст телеграмм надо воспринимать исключительно в прямом, вполне реальном его смысле. Не удержался и добавил, что я, конечно, дилетант в этих делах, но мне кажется, что тайный сигнал имел бы более замаскированный вид, например: «Тётя серьёзно заболела». Крутиков прочёл и проявил удивительную сдержанность: – Видно, что службой Вы не дорожите… А насчёт «заболевшей тёти» ошибаетесь, франкистский путч начался по сигналу, похожему на ваших добродушных нерп: «Над всей Испанией ясное небо». Отобрать у меня пишущую машинку не удалось – нам было разрешено перевозить на лодке домашнее имущество. Начштаба пошёл на компромисс – приказал опечатать её сургучной печатью.
Пишу объяснительную записку особисту: «…Нерпы – симпатичные, добродушные животные…». Остров Диксон, 1956 год
По приказу свыше командир наказал шестерых «нерполюбов» своей властью, то есть влепил им по выговору, долго подыскивая подходящую для этого случая формулировку. А меня должна была наказать Москва. Но Москва позабыла, так я и остался ненаказанным. "Зловредные" радиограммы, как ни странно, дошли до семерых адресатов, и некоторые из них подумали: «А не запил ли мой благоверный горькую где-то там, во льдах?..» ЧТО БЫЛО ПОТОМ(ПОСЛЕСЛОВИЕ, ВЫХОДЯЩЕЕ ЗА РАМКИ ТЕМЫ)
Льды отступили от берегов, и мы резво понеслись на Восток за ледоколами и в кильватер друг за другом.
12 сентября 1956 года. Восточно-Сибирское море в ста милях от пролива Лонга
Крейсер, сторожевики и большие лодки успели проскочить пролив Лонга, а все 613-е остановились, не входя в него. Пролив мог закрыться с минуты на минуту. Зимовка лодок во льдах – дело смертоубийственное, рисковать не стали. Несколько лодок, и моя в том числе, вошли в Колыму и зазимовали в Нижних Крестах (ныне Посёлок Черского), остальные возвратились за тысячи миль в Полярный и, как и мы, попали на ТОФ лишь в следующем году.
Мы не прошли. Идём зимовать на Колыму
Многие офицеры, оказавшиеся в числе зимовщиков, были огорчены тем, что ещё год предстоит жить без семьи. Но были и любители преодоления трудностей, всяческих приключений и экзотики. Боря Козлов, тот, что "Б.И.", служил на лодке, уходящей в Полярный. Возле устья Колымы он пытался уговорить комбрига перевести его на любую из лодок, остающихся на зимовку, взамен какого-нибудь командира БЧ-3, отягощённого теми или иными семейными обстоятельствами. К сожалению, не получилось. Меня рядом не было, а он не придумал колоритной, неожиданной и потому убедительной мотивировки типа: "Журнал "Вокруг Света" умолял своего внештатного корреспондента описать зимний забой оленей". Так и не довелось нам совместно пострелять из ружей 16 калибра, приобретённых перед выходом из Полярного.
Нижние Кресты, зима 1956 года. Лена прилетела особым рейсом полярной авиации. Это наш «дом»
В Нижних Крестах невзрачный на вид человечек предложил купить дом, всего-то за половинку моей месячной зарплаты – ему на билет не хватало. Домишко был похож на сарай, хотя и имел одно окошко. Печка – буржуйка. Я сказал, что без кирпичной плиты и разговора быть не может. Человечек сказал, что через неделю будет плита, а сам он завтра улетает. Имея привычку верить на слово, расплатился. Мои моряки обили стены, пол и потолок брезентом, а сверху фанерой. Пришёл какой-то дедок с ведром глины и мастерком, натаскал кирпичей, сложил печку. От денег категорически отказался: «Если заказчик узнает, убьёт!». «Так он же улетел». «Всё равно убьёт». Всё-таки сунул ему сто рублей под обещание, что никому не скажу. Домишко оказался не вполне приспособленным для жизни при температуре минус 55. Но мы с Леной, которая тотчас прилетела полярной авиацией, были тогда молодыми и легко справлялись с любыми трудностями. Позже, при прощании с Крестами, у дома выявился ещё один мелкий недостаток: оказалось, что он принадлежит соседям, которые до самого моего отъезда боялись об этом сказать! Таким, видно, крутым был тот, улетевший человечек. Разумеется, я безвозмездно отдал милым соседям-якутам временно отчуждённую у них собственность. Во время зимовки довелось познакомиться с колоритнейшими личностями, например, с дедом по прозвищу "Кривдун". Когда-то он участвовал в расстреле бакинских комиссаров. Отсидел. При спасении челюскинцев отличился, обеспечивая береговые мероприятия. Попал в список награждённых орденами. Список, ясное дело, попался на глаза НКВД, и герой наш вновь схлопотал червонец, а потом безвыездное проживание на Колыме. Он здесь уважаемый человек – хозяин зимнего забоя оленей. Вся его кухонная утварь – алюминиевый чайник, предназначенный и для чая, и для супа, и для спирта – ведь ничто из этого не употребляется одновременно. Дёшево предлагал мне бивень мамонта, но я отказался – нельзя лодку перегружать.
Колымский транспорт. Нижние Кресты, весна 1957 года
Капитан 3 ранга Крутиков Александр Макарович остался с колымской группой лодок, и мы вместе с ним, как друзья-приятели, охотились на белых куропаток. Интересно, что в последующем, куда бы я ни попадал и на Камчатке, и в Ленинграде, Крутиков перемещался вместе со мной. Даже когда я поехал на целину в качестве помначштаба флотского целинного автобата, он не просто попал туда же, а ехал со мной в одном купе. Я говорю: «Александр Макарыч, не пора ли сменить тактику?» «Нет, дорогой, мы иной раз работаем от противного – ты же не поверишь, что я к тебе приставлен, подумаешь, случайные совпадения, этого мы и добиваемся!». Умел пошутить мой друг Макарыч. Вербовать меня он никогда не пытался, однако ценил мой нереализованный чекистский потенциал – подарил (по моей просьбе) значок «50 лет ВЧК-КГБ», которым я пуганул немало знакомцев и незнакомцев. Дежурство на лодке… ежедневная околка льда вокруг корпуса… собачьи упряжки… шампанское, крабы, оленьи языки и консервированные ананасы в магазинчике, и бочонок с самодельной брагой в моей избе, по вечерам становившейся пристанищем для друзей-сослуживцев… – светлые, памятные времена!…
Вот так зимовали подводные лодки на Колыме…
Весной пробили взрывами канал во льду и вышли на чистую речную воду, а затем и в море. Ледовая обстановка была приличной.
Взрывами пробили канал для выхода лодок из реки Колымы. Май 1957 года
Лето 1957 года. На сей раз пролив Лонга пройден!
Шли без приключений, если не считать того, что Игорь Иванович Молотков был вызван на флагманский корабль ЭОНа на парткомиссию для серьёзного разбирательства. В Крестах он активно «дружил» с женой райкомовского комсомольского босса. После нашего ухода это раскрылось. В политотдел ТОФ, а оттуда в политорганы экспедиции поступила жалоба на сексуального разбойника, разрушителя семьи. Одним словом, он мрачно готовился положить на стол так счастливо нашедшийся в Казани партбилет. Но не будем забывать, что на лодке присутствовал будущий киносценарист! Признаться, это один из лучших моих сценариев. Я предложил Игорю Ивановичу ворваться на парткомиссию без доклада и крикнуть в лицо восседающих там "старцев": «Я её люблю! Хочу жениться на ней!». А дальше они станут уговаривать не ломать чужую семью, а главное, свою собственную, многодетную. В ответ им только три слова, но эмоционально: «Я её люблю!». И лишь через полчаса, не ранее, можно остыть и сказать, желательно со слезами на глазах: «Вы уважаемые, опытные в жизни люди… я подавлю своё чувство и расстанусь с ней… сохраню свою семью… обещаю». Они обрадуются, расцелуют и отпустят с миром. Всё так и было. Правда, целовать Игоря Ивановича не стали, но ограничились смешным «выговором без занесения». А вот он меня расцеловал!.. . Опыт мелодраматического воздействия на судей пригодился и года три спустя., в Петропавловске. Была очередная компания по борьбе с хулиганством. Под неё "замели" капитана рыболовного траулера Володю Завгороднего. Вернувшись с моря, он, будучи в избыточно весёлом настроении, слишком настойчиво ухаживал за дамой. Происходило это зимним вечером на автобусной остановке. В милиции обнаружили в его кармане рыбацкий нож, который был признан "холодным оружием". В результате однокашнику моему пришили статью "попытка к изнасилованию". Володя месяца на три попал за решетку, в "предвариловку". Я записался в свидетели. Сонное настроение судьи и двух старушек-народных заседательниц в момент изменилось, когда вместо банальной речи они услышали стихи Завгороднего, а среди них и мои, нацеленные на осветление личности подсудимого. Старушки всплакнули, а судья освободил его прямо в зале суда: " Автор таких стихов не может быть насильником". …Наконец-то пришли на Камчатку! Бухта Крашенинникова, посёлок Тарья. А на другой стороне Авачинского залива в хорошую погоду просматривается симпатичный, заманчивый город Петропавловск. Первые камчатские впечатления – обилие грибов на сопках и тарелки, наполненные красной икрой, в офицерской столовой. Уговорив командира не препятствовать, перешёл в давно уже приглянувшуюся службу военных сообщений, помощником Военно-морского коменданта Петропавловского порта. Должность командира боевой части передал Игорю Лощинину, а он, в надежде на последующее списание, вручил мне ракетницу, с которой не расстаюсь по сей день. Уйдя с лодок, приобрёл то, к чему стремился – свободное время. Но что-то и потерял. И это утраченное «что-то», сопровождаемое воспоминаниями о постукивании дизелей, много лет снилось по ночам, да и сейчас дорого моему сердцу.
С флота ушёл, но «подводником» остался…
Санкт-Петербург Апрель 2003 года |