



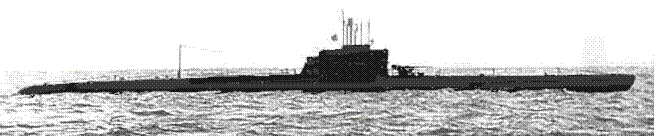
© Клубков Ю. М. 1997 год
|
|
  |
 |
|
|
© Клубков Ю. М. 1997 год |
|||
|
Пиотровский Александр Викторович прошёл школу Ленинградского военно-морского подготовительного училища и успешно закончил артиллерийский факультет 1-го Балтийского ВВМУ. Но звания офицера-артиллериста ВМФ и лейтенантских погон ему не дали, так как по отцу у него была двойная фамилия, о чём Саша Пиотровский не знал. Выйдя из стен родного училища на улицу без назначения на должность, он экстерном сдал экзамены в высшей мореходке и получил диплом штурмана дальнего плавания, после чего нанялся на работу штурманом на рыбный тральщик «Главсеврыбы» в Мурманске. Много лет он плавал в морях и океанах на различных судах. Об учёбе, друзьях и морских приключениях он с юмором повествует в своих коротких рассказах.
Александр Пиотровский
НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ
Предательский оттенок
Подготы помнят огромные штабеля дров во дворе училища. Память о дровах сохранилась на всю жизнь, во-первых, по разгрузке барж с дровами на Фонтанке, во-вторых, по устройству в дровяных штабелях всевозможных каморок, тайных ходов и прочих «хоронушек», где в тёплое время прекрасно можно сакануть от чего угодно без страха быть пойманным. Там же учили уроки, готовились к экзаменам, спали и прочее. Штабеля от забора по Дровяной улице отделяло метра три — это чтобы, по мысли начальства, со штабеля нельзя было прыгнуть на улицу, в самоволку. Вот это-то пространство интенсивно использовалось для игры в «расшибалку». Понятно, отцы-командиры за такие деяния по головке не гладили. Поэтому во время игры наверху штабеля кто-нибудь находился и следил за перемещением офицеров по двору, давая сигнал тревоги в случае опасности. «Расшибалка» — игра азартная. В самый разгар на кону стояла куча мелочи. Все с большим интересом наблюдали за точностью бросания биты. Чем ближе к черте попадала бита, тем больше азарт и волнение. Сторож свисал со штабеля и тоже азартно переживал за судьбу игроков. И, конечно, не заметил, как за штабель заглянул начальник строевого отдела — капдва с перебитым носом, а потому и гнусавым голосом, Зыбунов. Все бросились в свободную от Зыбунова сторону. Помчались резво — ноги-то молодые, зажимая правой рукой курсовку, чтобы не разобрать, с какого курса. А Васе Дону вследствие его неповторимой рыжести, пришлось ещё прикрывать голову гюйсом, но на затылок гюйса не хватило, и Вася услышал гнусавый вопль: "«Рыжий, рыжий!"». -- Слушай, Щёголев, там твой рыжий в деньги играет, прими меры. -- Есть принять меры. Рассыльный! По классам! И всех рыжих — ко мне! В классах трагикомедия на предмет определения рыжести курсантов. -- Яковлев! К начальнику курса! Иванов — тоже! Арька Иванов возразил: -- Да я не рыжий, это у меня прозвище такое. -- Всё равно, давай иди! Постепенно в приёмной собралось человек десять рыжих и не очень. Последним пришёл Дон. Он-то знал зачем вызывали. Увидя Дона, Зыбунов произнёс своим характерным голосом: -- Во, вот этот, этот! Щёголев, на хрена ты мне всех рыжих собрал? Только этого надо было — это настоящий рыжий! Чем кончилось дело, не знаю, там не был, не рыжий. Очевидцы потом рассказывали, что Зыбунов спросил: -- Чья бита? -- Моя, — признался Вася. После подробного разбирательства Зыбунов приказал: -- Иван Сергеевич, накажи игроков своей властью, а рыжего вдвойне за организацию игры. И, обращаясь к Васе, произнёс: -- А ты забирай свой выигрыш. Вася совершенно спокойно сгрёб со стола кучу мелочи и стал нахально канючить: -- Отдайте биту, она счастливая! Нахальство — залог удачи
Экзамены в училище: доска на двоих. Недовольство вытащенным билетом, тоскливые потуги вспомнить хоть что-нибудь. Что-то вибрирующее в животе. «Шпоры» за вырезом суконки или под резинкой на руке. Сосед Васи Дона разместил шпору на ладошке, но из-за мелкоты написанного поднёс её под самый нос. Другая рука с мелом сиротливо торчала поднятой вверх, опираясь на доску. По мнению экзаменующегося эта поза должна изображать сосредоточенность мысли, а по мнению экзаменатора — использование чего-то недозволенного. Шпаргалка изъята, курсант изгнан с переэкзаменовкой на осень. Немного погодя, Василий точно так же поднял руку, написал номер вопроса, обвёл его кружочком и замер, разглядывая пустую ладошку другой руки. Через некоторое время был схвачен за руку преподавателем. Васька сделал свои рыжие глаза совершенно круглыми, скорчил, насколько мог, удивлённую физиономию и произнёс: -- Что вы, товарищ преподаватель! Я просто так смотрю, стараюсь сосредоточиться, вспомнить. Преподаватель отошёл. Так не бывало, чтобы вообще ничего не знали. Поэтому Василий что-то писал, стирал, снова писал. Потом опять стал разглядывать ладошку. Разглядывал довольно долго и услышал, как к нему сзади крадётся преподаватель. Схваченный за руку, он вновь выразил недоумение. Расстегнул рукава, засучил их до локтей, Вытащил из брюк суконку, тряс ей, показывая, что никаких шпаргалок у него нет. Вроде бы удовлетворённый и несколько смущённый преподаватель сел за стол. Васька заправил суконку, застегнул рукава, что-то бормоча при этом, и достал «шпору». Шпаргалки были под резинкой на руке около плеча. Разместив шпаргалку на ладошке, внимательно прочитал, уловил суть и набросал на доске план ответа. Отвечал хорошо, но преподаватель, чувствуя какой-то подвох, поставил «удовлетворительно».
Маленькие хитрости
В подготовительном училище нас ввиду малолетства на гарнизонную гауптвахту не сажали. Своей сначала не было. А наказывать надо было, наказывать командиры любили. Наказания бывали разные: от пяти «линьков» мичмана Иванова до месяца без увольнения от командира роты. Одно из наказаний заключалось в стрижке наголо, что нами воспринималось крайне болезненно, так как причёска всё-таки украшение мужчины. Мы были уже юноши, ходили на танцы, и появление среди знакомых девушек с лысой головой и нелепо торчащими ушами считалось просто неприличным. Волосы на голове разрешалось иметь длиной «в два пальца». Извечным был спор о размерах пальцев. Не помню уж за что, но Дону было приказано постричься «под ноль». Необходимо напомнить, что Васька был чистокровным рыжим: волосы на голове, брови и ресницы — рыжие. Даже глаза были не карие, а именно рыжие. Дон был заядлым танцором, к шевелюре относился заботливо, считая её помощницей в охмуренин девиц. Какое-то время Дон тянул и не стригся. Но комроты после нагоняя сверху схватил Ваську и потащил к Максу, нашему парикмахеру. Когда шли по коридору, Васька попросился в гальюн. Через минуту Васька вышел, причёсывая мокрые волосы. -- Не выйдет, — сказал Макс, — волосы мокрые, машинка забьётся. Надо ждать, когда высохнут. Ждать командир роты не мог. Дело принимало серьёзный оборот. Получалось так, что боевой офицер, победивший немца, не может справиться с пацаном. -- В общем так — или стрижка, или гон из училища! Гона не хотелось, стричься тоже... Через некоторое время в коридоре поднялся шум: Дона с закатанными глазами тащили на шинели в санчасть. Дежурный врач сразу же определил: острый аппендицит, немедленная операция. В Морском госпитале на Фонтанке с Васей произвели все предоперационные процедуры, включая бритьё волос на лобке. Замораживание было местным. -- Ну-с, молодой человек, приступим, — сказал хирург, обращаясь к Дону, так как принято спрашивать согласие больных на операцию. -- Не, не, не надо! — завопил Васька. -- Как это не надо. — удивился врач, — у вас острый аппендицит, больно ведь? -- Нет, не больно. -- Как не больно? — врач надавил на живот, ожидая воплей больного. Васька молчал. — А сейчас? — И сейчас не больно. Болеть там было нечему, не было там воспалившегося апендикса, а была богатая фантазия и находчивость. На всякий случай Рыжего поместили в палату и держали там десять суток. За это время много воды утекло. Про волосы Дона забыли, и он остался при шевелюре. Правда, часть волос всё-таки потерял, но эту потерю мало кто заметил. Васиным сценарием воспользовался Арька Иванов, когда погорел в Севастополе и был отправлен в Питер для гона на флот. Но ему пришлось-таки отрезать апендикс. Врач долго разглядывал девственно чистый рудимент, держа его пинцетом на глазах у Арьки. Потом со злостью бросил его в банку с отходами производства. -- Зашивайте! — сказал он и вышел из операционной. После операции в то время давался месяц освобождения от службы — время вполне достаточное для покаяния и экстренного исправления. Арьку не выгнали.
На шхуне «Учёба» трубку курили только двое: подгот Пиотровский и командир шхуны капитан-лейтенант Силантьев
Первая отсидка
На экзамене по математике я спутал Фурье с фужером и схлопотал «гуся». Отсюда переэкзаменовка и потеря зимнего отпуска. Переэкзаменовку выдержал, на радостях «перебрал» и «погорел» на КПП. Итог — двадцать суток простого ареста. До этого я был на гарнизонной гауптвахте, но не в качестве клиента, а караульным. На разводе нас напугали всяческими страшностями, и в наряде мы были настоящими истуканами. Так что я немного представлял себе, как там и что. «Поселили» на третьем этаже в 21-й курсантской камере. Одни курсанты из разных училищ. Весёлая публика, но без блатного хамства. Вначале первое поверхностное знакомство, потом «присяга». «Присягу» принимали вечером, когда приносили нары и подголовники. Присягающий новичок с завязанными глазами становился на подголовник, который двое здоровенных ребят начинают потихоньку поднимать вверх. Руки испытуемого для остойчивости опираются на головы поднимающих. Поднимали сантиметров на десять от пола, не более, но сами при этом постепенно приседали, и испытуемый в конце концов терял их головы. Ему казалось, что он поднят на большую высоту. Вот тут-то и начинались вихляния и качания подвергаемого проверке. Но чтоб он не упал, его страховали. Наконец раздаётся команда: -- «Прыгай!». Проходящий испытания, находясь в полной уверенности, что его подняли на высоту роста человека, и приготовившись к такой высоте, прыгает с высоты примерно десять сантиметров и неуклюже падает плашмя на пол под общий хохот «арестантов». Растерянного новичка подхватывают и поздравляют с принятием «присяги», так как это было последнее из трёх испытаний. Можно было, конечно, отказаться от «присяги», но тогда конфликт неизбежен: не признают за своего, не оставят покурить или ещё что-нибудь в этом роде. Шибко гордых и умных не любили. После завтрака — развод по работам. Первые два дня где-то что-то таскали. Утром третьего дня Бармалей (старшина гауптвахты) перед распределением работ спросил: -- Художники есть? -- А что делать? — поинтересовался я. -- Шаг вперёд! Нале-во! В камеру шагом марш! — скомандовал Бармалей. Сижу один. Ну, думаю, опять влип. Через некоторое время меня под конвоем привели в гарнизонную поликлинику, расположенную недалеко от гауптвахты, и сдали какому-то майору. Тот отвёл меня в кабинет главврача, находившегося в отпуске, и объяснил суть работы. Работа была ерундовой: надо было на четвертинках ватмана по диагонали изобразить стрелку, а в начале и в конце стрелки два кружка. В каждом из кружков согласно списку нарисовать или галошу и надпись «Рост производства резино-технических изделий», или голову коровы с надписью «Рост поголовья крупного рогатого скота», и тому подобное. Дело шло к выборам, и требовалась наглядная агитация. Почему военную поликлинику подключили к росту крупного рогатого скота, не знаю, но не было ни одного плаката, отражающего рост медтехники или рост числа операций апендицита. Я оказался в уютном кабинете: кожаные кресла и диван, медбиблиотека в шкафу, несколько телефонов. Для начала нарисовал пару плакатов, показал майору, ему понравилось. Велел так же работать и дальше. Конкретной нормы не было. Эту работу хотелось дотянуть до конца срока, уж очень было здорово. Через коммутатор позвонил в роту, там очень удивились. -- Откуда звоню? Из камеры. У нас тут телефоны установили, обещают телевизоры. Конечно, не поверили. Попросил принести махорки, спичек и бумаги для самокруток. Приносил, помнится, Мальков. Он ещё и батон принёс. Сперва меня сопровождал караульный, потом стали отпускать одного. Возвращался поздно, перед самым отбоем, — мол, много работы. Приносил курево. Ходил и в воскресение: лучше валяться на кожаном диване, чем на полу в камере. И вот как-то раз я нарисовал Бармалея. Вышло удачно. Было понятно, что это Бармалей, а не кто-то другой. Принёс рисунок в камеру. Там портрет повесили на круглую печку (отопление было печное) и повалились на колени, изображая молитву. Молитва была шумной, поэтому не заметили, как в камеру ворвался Бармалей, увидев в «глазок» что-то непонятное. -- В чём дело? Почему на коленях? — заорал он. Все глядели на портрет, сравнивая его с оригиналом. Посмотрел и Бармалей. Узнав себя, приказал снять рисунок. Портрет сняли, и Бармалей долго и внимательно его рассматривал, а затем направился в баталерку, прихватив меня с собой. Там он, к моему удивлению, угостил меня чаем с печеньем и пожаловался на жизнь. Расстались мы почти друзьями. Жизнь ещё несколько раз сталкивала меня с Бармалеем, и каждый раз он относился ко мне по-человечески: не посылал на тяжёлые работы. И у меня о нём сохранились неплохие воспоминания.
Крутой поворот судьбы
Вскоре после госэкзаменов меня вызвали в особый отдел. -- Пиотровский, ты почему скрываешь, что у тебя двойная фамилия? — спрашивает меня особист. Стою в полном недоумении. Я знал, что у матери двойная фамилия, но что и у меня
тоже...? Никогда об этом не думал, свою метрику в глаза не видел. Документы в подготовительное училище отправляла мать семь лет назад. Всё время жил под одной фамилией. -- Как скрываю? Не скрываю, я даже не знал об этом. Видимо, раньше при проверке документов просто отмечали наличие метрики, не заглядывая внутрь, а когда стали составлять офицерское досье, обнаружили у меня двойную фамилию. В то время двойную фамилию имели только потомки дворян. Плюс к этому проявилось моё четверть-польское происхождение. Возникли проблемы и у Дона (Васи Донзарескова), но за Дона ничего определённого не могу сказать. Ходили слухи, что у него в документах была не точно указана национальность. Сразу после официального окончания училища нам с Доном «сделали ручкой» — выгнали на гражданку. После стрессового переживания и последующего успокоения принялись искать средства к существованию. А вот к этому в училище абсолютно не готовили.
Пришлось Васе Донзарескову нашить гражданского «краба» на офицерскую фуражку, сшитую по заказу к окончанию училища
Естественно, сунулись в гражданские флотские конторы. Но торговому флоту нужны штурманы, механики, радисты, но никак не «торпедисты-подводники» или «офицеры-артиллеристы». После мыкания по конторам, каким-то флотским курсам, мы попали в высшую мореходку на Косой линии Васильевского острова. Там посоветовали написать письмо в Министерство Морского флота с просьбой о сдаче экзаменов экстерном. Послали и стали ждать без особого энтузиазма. Довольно быстро пришло разрешение на сдачу экзаменов в порядке исключения. Всё-таки мы были первыми, массового «гона» офицерского корпуса ещё не было. Сжалились, разрешили. В мореходке создали комиссию во главе с Анной Ивановной Щетининой — первой советской женщиной — капитаном дальнего плавания. Во время войны она перегоняла транспорты из Америки на Дальний Восток. Рузвельт подарил ей «либертос» — десятитысячник (транспорт типа «Либерти», водоизмещением 10000 тонн), на котором она и капитанила. В 1948 году посадила пароход «Менделеев» на камни у острова Сескар. Грозила отсидка, спасла былая слава. Визу прихлопнули. С тех пор она деканила на судоводительском факультете мореходки. Стройная женщина в форменной тужурке, короткая стрижка, обширная орденская колодка, серые пронзительные глаза. Хотелось вытянуться и доложить о чём-то значительном. Из всего многообразия дисциплин, изучавшихся нами в училище и могущих иметь отношение к штурманской профессии, нам засчитали только одну, но самую-самую никчёмную и совершенно не нужную в штурманской практике — основы марксизма-ленинизма. Остальные: навигацию, мореходную астрономию, правила предупреждения столкновения судов и другие, всего девять экзаменов, надо было сдавать с интервалом в три дня. Начали сдавать и, что удивительно, сдали! После экзамена по девиации магнитного компаса Щетинина, выпроводив комиссию, сказала: -- У нас курсанты изучают девиацию два семестра и не знают её. Мне известно, что ни один из вас девиацию не изучал в нужном объёме. И как вам удалось за три дня выучить и в основном понять её сущность? Мы скорчили недоуменные физиономии и пожали плечами. Да с перепугу, наверное. Экзамены-то ведь надо было сдавать. Экзамены и банкет позади, штурманские дипломы в кармане, можно идти наниматься на работу. В Балтийское пароходство соваться было бессмысленно: виз не было и не предвиделось, так как мы были, если и не враги народа, то что-то около этого. Для нас оставался только Рыбпром. Решили податься на Север для получения хорошей штурманской практики. Ведь там обсервации только по светилам, спутников в ту пору ещё не было. Заключили договор, получили подъёмные, попьянствовали и отбыли в Мурманск в траловый флот Главсеврыбы.
Нам были предложены должности третьего штурмана на нескольких траулерах. Я выбрал поисковый РТ-56 «В. Головнин», а Вася — промысловый РТ-117 «Камчатка». Поисковый ищет рыбу, находит косяк, извещает флот, ставит радиобуй и уходит искать дальше, всегда в одиночестве. А промысловики только ловят, ловят в куче. Денег у них больше, но работа, по-моему, менее интересная. Как бы то ни было — началась новая жизнь.
На этом судне я стал настоящим моряком, прошёл много тысяч миль в океане в поисках косяков рыбы и выловил её немало.
Начальные шаги
Получив направление третьим штурманом на траулер РТ-56 «В. Головнин», доложил капитану, оказавшемуся на борту, о прибытии для прохождения службы. Капитан с интересом посмотрел на меня (видимо, ему не часто приходилось встречать всего лишь трёхпудовых штурманов) и велел идти принимать дела у старого третьего. Дела были приняты сравнительно быстро из-за моего незнания тонкостей будущих моих обязанностей. Доложили капитану, он поблагодарил старого третьего и отпустил его. Мне же было велено идти в город и по пивным заведениям собирать команду к отходу, назначенному на 22.00 сегодня. Другой пользы от меня всё равно не было. -- А как я узнаю команду? — спросил я у капитана. -- Зайди в пивнушку и громко спроси: кто с пятьдесят шестого? Кто откликнется, того и забирай. И сразу же на судно. Я тем временем встану на рейде на якорь, а то не удержать будет, разбегутся по пьянке, сорвём отход. Вот с таким, крайне необычным для меня первым поручением, я отправился в город. Пивных было много, даже очень. В пивнушке, в которую я зашёл, стоял сизый туман от курева и сплошной гул голосов. Но я надеялся на свою глотку, а глотка у меня здоровая. Некоторые наши ребята, наверно, помнят, когда я стоял на посту у знамени и орал «Смирно» при появлении начальства, меня слышали даже на четвёртом этаже. Однажды я напугал до смерти замполита Межевича, который в глубокой задумчивости спускался по главному трапу мимо знамени. Я думал тогда, что для Межевича надо скомандовать громко, чтобы сила звука соответствовала его должности. И я заорал во всю силу. Испуг был большой: Межевич вместо уставного «Вольно» замахал обеими руками и что-то забормотал, так и не отдав чести знамени. После этого случая мне было велено орать вполсилы. Но на первый мой выкрик в пивной никто не обратил внимания: то ли не очень громко орал, то ли просто привыкли к громким крикам. Осмотревшись и слегка пропитавшись атмосферой, заорал во всё горло: -- Есть кто с пятьдесят шестого? Совсем рядом спокойно ответили: -- Есть, а что надо? -- Давайте на судно, капитан велел всех собрать к отходу. -- А ты кто такой? -- Я ваш новый третий. -- А, понятно. Ну-ка прими маленько. -- Я не могу, я при исполнении. -- Ну, как хочешь. Примешь, пойдём на судно, а то жди, пока мы сами захотим пойти. В училище такое даже не предполагалось, никаких рекомендаций не было. Пришлось принять, и пошли. По дороге зашли ещё в несколько пивных. В одной оказались наши, и история повторилась. Водка действует на килограмм живого веса. Почему-то я, в какой бы компании ни оказывался, всегда был самым лёгким, ну и, естественно, самым пьяным при паритетном потреблении спиртного. А вот таскать меня, по мнению носильщиков, было сравнительно легко из-за малого веса. Ни подтвердить, ни опровергнуть этого не могу, так как ни разу сам себя на плече не носил и вообще оставался обычно на собственных ногах. Так случилось и на этот раз. В портовой проходной не препятствовали проходу пьяных, ясно сознавая, что в противном случае график отхода судов в море будет сильно нарушен. А в море пить негде, очухаются. На судно прибыли рейдовым буксиром «Норд». Пытался доложить капитану о выполнении задания, но меня уложили в каюте на койку и заперли дверь. Оформление отхода проспал, хотя это была моя прямая обязанность. Зато о последующих отходах, которые мне приходилось оформлять, есть что вспомнить. Обычно на отход приходил наряд пограничников. Командовал им старший сержант. Команду судна, а это 45-47 человек, надо было собрать в одном месте, обычно в салоне, чтобы пограничники могли их пересчитать и сравнить с судовой ролью — списком команды на данный рейс. Конечно, в салоне не все: отсутствует вахта, кто-то с койки встать не может и прочее. Часть пограничников идёт осматривать судно, обыскивать его на предмет спрятавшихся от проверки и, по их мнению, желающих убежать за границу, хотя ни в какие иностранные порты мы никогда не заходили, ну, а вдруг... Пьяные матросики не могли долго усидеть на одном месте. У кого-то недопитая бутылка в каюте, но об этом нельзя сказать. Он уходит якобы в гальюн, добавляет, падает на койку и в салон не возвращается. Другой за куревом уходит и тоже пропадает. А кто-то из спавших очухивается и начинает бродить по судну в поисках «поправки». Получается зыбучее, постоянно меняющееся число людей. Пограничники психуют, но сделать ничего не могут. Судно они знают плохо, особенно молодые, обход длится долго, а результат всегда бывает обескураживающим: сколько человек на судне — не ясно. Вконец обалдевшие, а иногда и хорошо угощённые пограничники собираются в салоне и сверяют свои данные: у кого 43, а у кого 46 человек. В общем, ни у кого нет ясности, сколько же людей уходит в рейс. Кончается процедура проверки с помощью третьего штурмана. Он называет точное количество уходящих в море, а не явившихся к отходу вычёркивает из судовой роли. Старослужащие пограничники сразу же решали вопрос с третьим, не лазая бесполезно по судну. Но некоторые, наиболее исполнительные, заглядывали даже в тумбочку стола, и на ехидный вопрос: «Ну, сколько же их там?» делали злую физиономию и отвечали: «Положено проверять». Помню, как однажды зимой, в сильный ветер, я увидел на причале Таллинского порта кучку сгорбившихся солдат в шапках с завязанными «ушами» и скорбно опущенными головами. -- И что эти доблестные защитники отечества тут делают? — спросил я у поднимавшегося на борт майора. -- Это будущие пограничники, досмотрщики судов. Им надо показать на судне места, где можно спрятать человека. -- А насколько хорошо они знают устройство судна? -- Да вообще не знают, откуда им знать. Это вы, моряки, обязаны знать своё судно, а у них другие обязанности. Он так думает, а я-то знаю, что пока они не будут более-менее знакомы с устройством судна, занятия проводить с ними бесполезно. Не зная судно, не знаешь, где искать. Недаром случаи нелегального провоза людей оканчивались успешно, если не продавали стукачи.
Невязка
Рейс подходил к концу — кончался уголь. Мы были где-то южнее Шпица. Погода прекрасная: высокая сплошная облачность, море два-три балла. Из-за отсутствия солнышка мы с неделю, а может и больше, определялись по счислению. Радиопеленгатор был, но не работал. Дно ровное, так что по характерным изменениям глубин тоже не определишься. Так или иначе, а надо идти домой. Я проложил курс от Шпица на Нордкап. Главное — зацепиться за землю, а там вдоль Норвегии к дому. Да ещё Гольфстрим в корму — три узла добавляет, так что главное — зацепиться. Земля должна была открыться в конце моей дневной вахты. Видимость миль двадцать, если не больше. В расчётное время земля не открылась. Командую рулевому: -- Влезь на мачту, посмотри по горизонту, и не ори, доложишь мне здесь, я на руле побуду. Матрос с мачты отрицательно башкой мотает. Докладывает: -- Ничего не видно. -- Ладно, вставай на руль. Вахту надо было сдавать старпому, который хорошо умел обрабатывать рыбу, но в штурманском деле был не очень... Ничтоже сумняшеся, хотя кошки скребли на душе, я сдвинул точку сдачи вахты на двадцать миль назад по курсу и сдал вахту старпому. При этом полагал, что, при его занятости на вахте сочинением рейсового отчёта и при спокойном и пустынном море, он не обратит внимания на слишком малое расстояние, которое я прошёл за вахту. «Тут Нордкап откроется, — думал я, — доложишь мастеру (капитану) и повернёшь». Весь комсостав был занят составлением рейсового отчёта. Чтобы не делать это на берегу, работали в море. Поэтому никто не заметил, что земля так и не открылась, а я промолчал. Не открылась, так откроется, куда ей деваться. Не первый раз с моря приходим. Быстренько перекусил и на койку. Как ни странно, уснул. Разбудили через некоторое время: -- Мастер на мостик вызывает. У нас, штурманов, привычка: как пришёл на мостик, первым делом — взгляд по горизонту для оценки текущей обстановки. Потом взгляд на карту для общей оценки. Горизонт чист, а на карте — сущая чушь. Курс, проложенный согласно счислению, делал поворот и вдоль Норвегии устремлял нас домой, а курс по компасу до поворота и пройденное расстояние свидетельствовали, что мы идём прямо через сопки. Капитан посмотрел на нас без особой злости. -- Ну, штурмана, где мы, я вас спрашиваю? -- В море, Матвей Иваныч, в море. И тут его взорвало: -- Сам знаю, что в море, а не в ... А земля где, где земля, мать вашу так...! -- Матвей Иваныч, земля-то — шарик. Если идти всё время этим курсом, снова придём к Шпицу, там и определимся. -- Уголь, уголь кончается, какой там шарик! Если при плавании по счислению судно оказывается не там, где предполагалось, есть только две причины (Атлантиду исключаем): или лаг врёт, или компас. Лаг проверили быстро и надёжно: засекли время прохождения длины судна плавающим предметом. Лаг не врал. С компасом было сложнее. На судне два компаса: главный и путевой. По главному ведут все расчёты и определяются по пеленгам, по путевому держат курс. В предыдущем рейсе главный забарахлил: при поворотах вращался судорожно, рывками. Ясно: или игла притупилась, или в подпятник грязь попала. Надо разбирать и смотреть. Капитан велел отнести компас в мастерскую, и чтоб к отходу был готов. Компас я отнёс, компасный мастер его принял и, спросив, когда отход, обещал сделать, работа не сложная. На стоянке у второго штурмана масса дел: надо получить «Извещения мореплавателям» и другие предписания, получить продукты на рейс на всю команду, получить и раздать зарплату, отстоять стояночную вахту, следя при этом, чтоб матросики сильно не напились и не разбежались. Кроме того, частые перешвартовки, оформление всяческих документов и многое, многое другое. Короче, о компасе я вспомнил перед самым отходом. Бегом рванул в мастерскую. На двери мастерской висел замок. -- А где «хозяин»? — спросил я у ребят-мастеровых. -- Э, милый, он два дня как в запое, меньше недели не возьмёт. Ломать дверь не решился, да и компас, наверно, в прежнем виде. Доложил капитану. Вообще-то без главного компаса в рейс выходить нельзя. Но рейс что ли отменять из-за этого? Да и пользовались мы главным очень редко: Баренцево море глубокое, банок и камней нет, берега приглубые — швартоваться можно. Да и кто знать-то будет? Так я рассуждал вместе с капитаном. Решили: пойдём без главного. И вот вляпались. Принесли ракетницу и поводили ею над путевым, нашим единственным компасом. Картушка плавно поворачивалась туда-сюда. Почесали в затылках. Тут, как на грех, явился маркони (радист) и произнёс: -- Диспетчер запрашивает координаты и время предполагаемого прихода. Послали маркони подальше, но ведь что-то диспетчеру отвечать надо. На мостике был и дед. Так звали старших механиков на судах ещё во времена внедрения паровых машин, когда механики для солидности носили бороды. Деду Филиппу Петровичу предложили: -- Давай сообщим что-нибудь не очень серьёзное с машиной, мол, так и так, хода нет, а мы где-то в районе Норвегии. Дед поорал, но согласился. Маркони ушёл давать радио. Решили заглянуть в нактоуз. Это такая тумба под компасом, в середине которой на оцифрованной спецтрубе расположены компенсационные магниты, служащие для уменьшения отклонения показаний компаса от направления на полюс из-за влияния намагниченности корпуса судна. Магниты жёстко фиксируются на тумбе, и их положение заносится в таблицу девиации компаса. Дверца нактоуза была закрыта на ключ. Ключа, конечно, не нашли. -- Механик, открой тумбу, это твоё прямое дело, не отпирайся. Тумбу открыли топором и ... Магниты, и прямые, и поперечные лежали в самом низу тумбы друг на друге! Когда они упали, сколько вахт мы счислялись по неверному компасу? — никому не известно. Магниты надо поставить на место согласно таблице девиации, и грубо угол отклонения будет определен. -- Давай ставь магниты на место. Где таблица? — орёт капитан. -- Да только что здесь была, в рубке, — отвечает штурман. Таблицу не нашли. Решили закрепить магниты на средине: всё-таки ближе к истине, чем внизу тумбы. Стрелка компаса сразу же ушла градусов на 20. Стало ясно, что нас занесло совсем в другую сторону. Норвегия должна быть справа, а она, наверно, слева. -- А ну, штурмана, все на верхний мостик, и пока солнце не возьмёте, вниз не спускаться! — приказал капитан.
Познания в мореходной астрономии, полученные в училище, неоднократно выручали при длительных плаваниях вдали от берегов
Облачность была сплошная и высокая. Мы теперь примерно знали, где солнце, но сквозь плотную облачность его видно не было. Наконец, образовалось какое-то светлое пятно, которое мы решили принять за солнце и по нему определиться. Лучшего всё равно ничего не было. Быстренько секстаном взяли высоту светила, рассчитали и получили линию. Тут же, вопреки правилам, взяли вторую высоту и получили точку. Точка оказалась в Атлантике, но хорошо, что хоть в нашем полушарии. Единственное, что нам оставалось, — идти вдоль берега, не теряя его из виду. Но проходить норвежскими шхерами строжайше запрещалось: территориальные воды, обязательно нужен лоцман и прочее. Но Матвей сказал, что до войны он несколько раз ходил шхерами. Территориальность вод нас как-то не смущала. Решили идти шхерами. Траулер был финской постройки, все надписи на корпусе океан слизал, а на рубке — название по латыни, как принято во всём мире. Я поднял наши позывные, но «раком»: первый флаг соответствовал четвёртому, второй — третьему и так далее. Хрен поймёшь, кто мы такие. Если бы остановили, сказал бы, что от волнения перепутал. Кормовой флаг не поднимали вовсе: в море не принято его поднимать, так как через некоторое время от него останутся одни лохмотья неопределённо-грязного цвета, по которым невозможно определить его государственную принадлежность. К тому же флаги у нас списывали раз в полгода, приходилось экономить. Шли около суток, никто нас не остановил, пушки с берега не стреляли, не то, что у нас в Кольском. И даже морзянкой не запрашивали. Вышли около Тромсё, совсем без угля. -- Маркони, лови тральцы, идущие в Мурманск, будем уголь просить. — распоряжается капитан. Бункеровка в открытом море при волнении четыре-пять баллов — занятие не из весёлых, но уголь взяли, и своим ходом пошли дальше. На входе в Кольский залив встретил буксир, ошвартовался бортом и потащил в Мурманск, так как уголь опять кончился. Настроение было гадкое. По приходу мастер куда-то исчез, боялись, что навсегда. Такое иногда раньше случалось. Но через некоторое время он появился на судне, забрал всех штурманов, и мы отправились в морскую инспекцию. Встреча прошла за закрытыми дверями и не для печати. Выйдя оттуда, мы дали клятву, что никогда, ни при каких обстоятельствах, никому не расскажем, что там нам было сказано. Никого не посадили, и мы продолжали ходить в море, как и прежде, но к правилам эксплуатации технических средств кораблевождения стали относиться с должным почтением. Крестины
С Васей Донзаресковым мы были на разных траулерах. Стоянки в порту совпадали редко, и мы, в основном, поддерживали связь по радио. Маркони (радисты) ворчали, но не отказывали.
Вот так иногда мы встречались с Васей Донзаресковым в океане и вновь расставались на полгода
Вдруг получаю радиограмму: «Астра, жена Василия, родила двойню». Сам он в это время тоже был в море, об отцовстве узнал из радиограммы с берега и толком ничего не мог понять. По календарю никак не выходило — рано. По молодости он не сообразил, что бывают и семимесячные. Придя в Мурманск, сразу же к Василию. Он снимал комнату в деревянном доме на Зелёном мысу. Дом был старый, холодный, со множеством щелей, но с электричеством. Астра родила семимесячную двойню: девочку и мальчика. Девочка умерла сразу, мальчик уцелел. Младенец был крошечный, весь красный, с судорожно поджатыми ручками и ножками. Он помещался в картонной коробке, весь обложенный ватой. Под потолком, над коробкой, висела лампочка, якобы согревавшая младенца. Розетки в комнате не было. Я соорудил примитивный электрообогреватель, чтобы хоть как-то согреть младенца. Но всё равно в доме было холодно — хозяйка экономила на дровах. Вася в рейс не пошёл, обустраивал жильё, затыкая дыры. Во время отлива вылавливал брёвна из залива, таскал их наверх к дому и там разделывал на дрова. Дров много надо было. В следующий приход я, взяв бутылку водки, так как в Мурманске без бутылки водки не встречались даже по самому пустяковому поводу, пошёл к Василию. Младенец выглядел лучше и не был таким красным. -- А как назвали? — спросил я. Вася отвечает: -- Да пока никак. Вот Астра хочет Олегом. Но Олег — это ведь мужик, у него дети будут. А какое же у них будет отчество? Олегович, Олеговна — телеговна? -- А как же по-твоему назвать? — спрашивает Астра. -- Как, как, Александром, конечно! Вот ведь были Александр Македонский, Александр Невский, Александр Пушкин, наконец, Александр Пиотровский! Вот это имя! — произнёс Василий. Решили назвать Александром. У православных принято давать имя ребёнку при его крещении. В то время у нас отношение к крещению в силу нашего воспитания было неоднозначным с преобладающим негативным оттенком. Нормальное церковное крещение осуществить было затруднительно из-за возраста младенца. Астра его ещё ни разу на улицу не выносила, боясь простудить. Насчёт церкви уверенности тоже не было: мы не знали, где она находится, и есть ли вообще в городе. Вот кабаки знали все, даже знаменитую кочующую «Вену», которая стояла на больших тракторных санях и регулярно, после очередного предписания горсовета, переезжала на новый перекрёсток. Постановили, что неважно, где крестить, важна сущность. Остановились на домашнем варианте, по-семейному. Я поставил четыре фужера и до краёв наполнил их водкой: по фужеру нам с Василием, один Астре и один младенцу. Мы с Василием сразу же выпили, Астра отказалась, сославшись на то, что молоко будет горчить, а младенец не сказал ни да, ни нет. Я велел развернуть чадо, окунул вилку в фужер с водкой, налитой для обряда крещения, и стал брызгать на животик младенца, приговаривая при этом: -- Расти, чадо, большое, разумное, здоровое, послушное родителям и не всегда начальству. Нарекаю тебя Александром свет Васильевичем! Вот и окрестили. Так уж получилось, что своего крестника я никогда больше не видел. Но он известил меня о смерти отца и прислал посмертную фотографию.
Смекалка
О, могучая русская смекалка, особливо изобретательная по части всевозможных недозволенных деяний! Вспоминается Мурманск: как ловко там изымали из порта рыбу! Если задерживали на проходной с выносом, — три года без всяких оправданий. Выносить боялись. В магазинах покупать не хотелось — вон сколько рыбы в порту, причём, сами наловили. Безопасных способов выноса было несколько. На поисковых траулерах иногда занимались мечением рыбы: только что пойманную рыбину измеряли (длину и вес), специальными клещами цепляли на жабру бирку и бросали в море. Смотрели: если ушла на глубину, записывали в журнал, если пузом кверху — что ж, брак, и так бывает. У меня были и клещи, и бирки. Перед концом рейса просил какую-нибудь солидную рыбину положить на лёд, а бирку клал в банку с морской водой, да ещё с добавкой соли, чтобы позеленела.
А вот и рыба, будь она неладна! До чего же трудно она достаётся! Но, кроме рыбаков, никто этого не знает
Метили рыбу не только мы. Попадались меченые рыбины и со своими, и с иностранными бирками. Пойманную меченую рыбину желательно было отнести в рыбный институт ПИНРО для изучения миграции. Там за это маленько приплачивали. В порту я цеплял бирку на ранее отложенную рыбину, сам себе выписывал на неё пропуск, а на проходной, указывая на бирку, небрежно говорил: «в ПИНРО». Пропускали беспрепятственно, так как знали, что в ПИНРО тащат всякую морскую живность. Вместо ПИНРО иду к деду — нашему старшему механику. Его жена Шура вкусно готовила. Или другой способ. В порту было множество бочек, так как сельдяной флот привозил рыбу исключительно в бочках. Вышибали у бочки дно, выбрасывали полбочки рыбы и, дождавшись отлива, отпускали бочку по течению. В воде бочка держалась вертикально. На другом берегу, где течение близко подходило, бочку уже караулили и легко вылавливали из воды. Делали ещё так. Правда, к рыбе это отношения не имеет. Суда, приходившие из загранки, проходили досмотр или на рейде Мурманска, стоя на якоре, или ошвартованные у стенки. В ту пору много возить из-за бугра не разрешали. В лимитных книжках указывалось, что можно привезти. Женатому и холостому — разно. А возить хотелось. Так вот, идя заливом, уже на подходе к Мурманску, морячки убирали вещички в непромокаемые мешки, плотно завязывали, прикрепляли конец с приметным буйком и, заметив место на берегу, тихонько опускали за борт. После всех проверок достать груз — дело техники. Зато с таможней всё чисто, есть только то, что указано в лимитке. Правда, была опасность, что с берега тоже следят за судном и, если засекут, достанут груз раньше владельца. На одном «либертосе» привезли мотоцикл. Таможенники от стукача знали об этом, но сколько ни искали, найти не могли. А ведь мотоцикл не спичечный коробок. Наконец, они взмолились: -- Покажи, где спрятал, а мы его пропустим. Им было важно знать, где можно спрятать такую махину. А мотоцикл был подвешен к подволоку в салоне и прикрыт расположенным там плафоном. А когда везли контрабандный материал (бостон, шевиот и другие), стелили его в каюте прямо на палубу, посыпали содержимым пепельниц и другой грязью, топтали ногами и прочее. Не всякий таможенник поймёт, что лежит на полу в каюте. Вообще, без помощи стукачей успехи таможенников выглядели бы достаточно скромно.
Стукачи на флоте
Как это ни печально, но наш торговый флот, особенно закордонный, на стукачей был богат. Так было раньше, теперь-то их, наверно, меньше. Я вспоминаю, как определил судового стукача, когда был на «Мелитополе». Что стукач есть — это ясно, но кто? Было подозрение на одного человека, но надо было знать точно. Однажды вечером пришёл на судно так, что вахтенный меня не видел. Быстро в каюту. Опустил броняшки на иллюминаторах, но не задраил, чтобы была шёлка, через которую виден свет. Дверь — на ключ, но ключ оставил в замке. И затих, слегка ворочаясь на койке. Постучали. Не открыл, — нет меня, хотя свет через щёлки виден, да и ключ в двери. Не открыл, и всё тут. Утром бросил на диван заранее припасённую женскую подвязку, поставил на стол бутылку с недопитой водкой, короче, изобразил следы тайного гуляния. И стал ждать. Ожидаемый человек зашёл через некоторое время. -- Ты чего вчера не открывал? Ведь был в каюте, я же знаю. Указав ему на подвязку, я сказал: -- Ну как тебя пустить, сам понимаешь. Убежала рано утром, даже подвязку оставила. Смотри, не болтай никому. Допили водку и разошлись. Через несколько дней по делам был в пароходстве. Там меня партдеятели затащили в какую-то комнату и начали воспитывать на предмет моральной устойчивости. Я сперва не понял, а когда врубился, прямо им сказал: -- Ищите себе стукачей поумнее. Они сперва растерялись, но потом сообразили, что к чему, и просили не раскрывать Сергея: он, мол, тоже комсостав, без стукача флот жить не может и так далее. Я же пообещал им, что обязательно расскажу всем. Стукачей не терплю ещё с училища. Сергея перевели на другое судно, а я вскоре уволился из пароходства и перешёл на научную стезю.
Рейс на Ягураху
После зимнего отстоя и текущего ремонта мы с колониальными товарами для сельских лавок отходили на острова, точнее — на Ягураху. Отход оформили быстро, пограничники по судну особенно не шастали, не то, что в тралфлоте у рыбаков. Документы подписаны и убраны. Уже уходя с судна, старший наряда пограничников поинтересовался: -- А где эта Ягураху находится, что-то не припомню? Я, не тая никакой цели, только благодаря долгоязычности, буркнул: -- Да в Швеции... Что тут началось! У старшего и глаза, и рот сделались круглыми, звука сначала не было. Потом: -- Стой, стой! Какая Швеция?! Ведь отход оформлен как каботаж во внутренних водах! Где загранпаспорта и визы? Не разрешаю отход! Пойду позвоню. Капитан, не давайте команду на отход, я быстро. Его можно было бы просто проигнорировать, но у него был наган, а это опасный предмет в руках обалдевшего человека. -- Да брось ты, брось, пошутили мы. Ягураху на островах, свой посёлок, советский, — пытались мы успокоить пограничника. Капитан ткнул меня в бочину: -- Ты «дунул», ты и выкручивайся, но чтобы через десять минут концы были отданы. Пришлось мне объяснять пограничнику, показывая карту: -- Смотри, где Ягураху, а шведского побережья у нас вообще нет. Так что верь карте, да и все грузовые документы на русском языке, а не на английском. Ясно, что груз для России. Пограничник начал как-будто что-то соображать. Тут и другие включились в доказательство отечественной принадлежности Ягураху. Наконец, я ему говорю: -- Пойдём ко мне в каюту, там у меня есть точное доказательство государственной принадлежности Ягураху. В каюте было полбутылки «красноты». -- Попробуй и скажи: наше или заграничное? -- Наше, наше, за границей, наверно, такую гадость не делают. -- И за границу такое не возят. Это был убедительный довод. Пограничники ушли. Отошли и мы. Везли всего помаленьку: масло, печенье, конфеты, крупы разные, водку и коньяк, вина, в основном, дешёвые. Груз в обоих трюмах, хорошо раскреплён, трюма опечатаны. Экспедитор, сопровождавший груз, молил бога. чтобы море во время рейса было неспокойным для успешного списания части груза из-за порчи при качке. В Ягураху предстояло разгружаться своими стрелами, и сопровождающий обещал за аккуратную разгрузку комсоставу ящик коньяка, а команде — ящик водки. Обычная такса для подобных работ. Через некоторое время после отхода я заметил подозрительную активность всегда спокойного боцмана и отправился рассеять свои подозрения. Боцман был в каюте в явном поддатии, что вообще-то в море случается довольно редко. На мой выразительный взгляд боцман достал бутылку коньяка, запечатанную сургучом и пробковой пробкой. Потом взял шприц с толстой иглой, спокойно проткнул сургуч и пробку и отсосал из бутылки. Снаружи было совершенно незаметно. -- Уровни в бутылках всегда разные, а для видимости можно добавить воды. Из каждой бутылки понемножку, но ведь ящиков-то много, а бутылок в них ещё больше, — так объяснял мне боцман. Трюма хоть и были опечатаны, но в первый можно было попасть через шахту лага, из которой неведомая экспедитору дверь вела в трюм. При погрузке эту дверь грузом не заложили, ход был свободный. И вот боцман, под предлогом проверки крепления груза, из трюма почти не вылезал. Сколько он отсосал коньяка, не знаю, но до самого возвращения в Таллинн был чрезвычайно деятельным.
Добрый дед
Дедом на «Мелитополе» был потомок греческих мореходов, окончательно обрусевший Панаиотти. Деду было лет сорок пять, нам много меньше, до тридцати не дотягивали. Дед казался нам умным, знающим жизнь человеком, грамотным механиком. За кордон нас не пускали, но кое-кто из пароходства уже шастал за границу в пределах Балтики, так что шмутками можно было разжиться. И вот дед раздобыл женский гарнитур и с дурья, на радостях, позвонил в Питер жене, обрадовал её. Отходили на следующий день утром, а накануне вечером дед явился на судно в большом подпитии в компании с какой-то крашеной лярвой преклонного возраста. Деда стали отговаривать от очевидных его намерений, но он не на шутку рассердившись, отправил нас подальше. Отход прошёл нормально. Погода прекрасная, лето, солнце. Я, будучи свободным от вахты, вылез побездельничать на палубу. Немного погодя, на палубе появился дед. Вид у него был удручающий: царапин и синяков не было, но лицо напоминало печёное яблоко. -- Дед, тебя что, через мясорубку пропустили? Он не ответил. Постояли, покурили. Дед был явно чем-то удручён. Он часто и глубоко вздыхал. Я думал, это с похмелья, но не угадал. -- Ты чего, дед, случилось что или как? -- Случилось, Сашка, случилось. И дед признался, что отдал гарнитур этой лярве. -- Да как ты мог, ведь Валентина про него знает? Зачем отдал? -- Зачем, зачем?! Знаешь, Сашка, ведь сердце мягкое, когда сам твёрдый. Да-а-а... На такое я не знал, что ответить. Но что же теперь деду-то делать? Сказать, что за борт нечаянно уронил, жена не поверит. Украли — тоже явная липа: на флоте воруют редко. -- Знаешь, дед, иди к Айне, у неё вроде бы был гарнитур. Упади на колени, но выпроси. Другого выхода у тебя нет. Айна была у нас поварихой. Пожилая, очень аккуратная, но весьма прижимистая эстонка. Дед ушёл. Увидел я его уже перед самым приходом в Питер. -- Ну как, вышло? — спрашиваю я. -- Вышло, Сашка, вышло! За мной коньяк! — весело ответил дед.
Бочка сельди
В Питер из Таллинна привезли щебень для строительства метро. Обратно надо было перевезти две тысячи бочек норвежской сельди. Рейс выгодный: сельдь — не щебёнка, стоит дороже. Платили нам от стоимости тонна-мили: дороже груз — выше заработок. Я был вторым штурманом и отвечал за груз. Бочки штабелями лежали на причале. Приступили к погрузке сразу в оба трюма двумя кранами. На каждый трюм поставили по два тальмана (счётчика груза): один от судна, один от порта. Бочки грузили храпцами, поднимали по 8-10-12 штук сразу. Тальманы считали бочки и, если счёт совпадал, давали команду на спуск в трюм. Погрузка быстро наладилась. Капитан посмотрел-посмотрел и ушёл, лаконично сказав напоследок: -- Бочку украдут. -- Как украдут? — возмутился я, вон тальманы считают. -- Считают — не считают, а всё равно украдут, — сказал капитан и ушёл в город. Я передал тальманам предупреждение кэпа и потребовал повысить бдительность. -- Не, Викторыч, да мы же смотрим, да мы им ... Погрузка шла своим ходом. В трюмах было уже восемь-девять слоев бочек, и капитанское предупреждение начинало казаться выдумкой. Пообедав, прилёг на диван. Проснулся от воплей, выскочил на палубу, оттуда на причал. Мой тальман лез в драку на портового, грузчики их разнимали. Капитан оказался прав. Погрузка уже заканчивалась, когда счёт не совпал: портовый тальман показывал, что погружено на одну бочку больше. Несмотря на вопли нашего тальмана, крановщик сунул бочки в трюм, а там их грузчики моментально расшвыряли. Я остановил погрузку, и мы принялись считать бочки в трюме. Сосчитанную бочку метили мелом, чтобы не сосчитать дважды. Верхний ряд и ряд под ним прошли быстро и без споров. До нижних рядов добраться было невозможно. Дальнейший счёт терял смысл. Я психанул и велел выгрузить бочки на причал для точного счёта. Выгрузка и последующая погрузка за счёт виновного. Боже! Что тут началось! Все орали, особенно грузчики. Крановщики матюгались сверху из своих кабинок. Прибежал диспетчер, тоже орал, что причал надо освобождать, а я это задерживаю. Пришёл капитан и с отрешённым видом смотрел на происходящее. Я — к нему: -- Что делать? -- Я предупреждал, а делай теперь ты, ты второй, ты за груз отвечаешь. Кэп меня недолюбливал за малогабаритность: -- Скоро из детсада комсостав присылать будут, -- буркнул он. В спорах и криках прошло полчаса. Портовики нервничали: за увеличение времени погрузки их не похвалят. Выгружать бочки на причал крановщики категорически отказались. Стороны сошлись на формулировке: «бочка в споре». Тогда я не знал ещё, что этому грош цена: ни один кладовщик не примет на склад «бочку в споре». Погрузку быстро завершили и отошли на Таллинн. На каждый рейс выдавалось рейсовое задание: какой груз, сколько его, откуда, куда и за какое время доставить. За перевыполнение задания — премия, небольшая, но всё-таки премия. На расстоянии экономить было сложно и опасно, а время рейса позволяло в небольших пределах выгодные для нас вариации.
Стою на ходовой вахте, самостоятельно веду судно в море, отвечаю один за всё
Из-за минной опасности в Финском заливе после захода солнца положено было вставать на якорь, чтобы в темноте не напороться на плавающую мину. А в тумане, когда не видно носа собственного судна, плавание разрешалось — считали, что мину можно увидеть. Идиотизм, узаконенный инструкцией. Предписывалось также вставать на якорь, когда военные закрывали Кронштадт. На время стоянки на якоре ночью и у Кронштадта увеличивалась плановая продолжительность рейса. Если на якоре фактически не стояли, а только записывали это, получалось перевыполнение плана по продолжительности рейса. Время захода солнца можно проконтролировать по ежегоднику, тут много не выиграешь. А вот время закрытия Кронштадтского рейда проверить практически невозможно. Но сильно врать тоже нельзя: получилась бы слишком большая скорость судна, то есть явная липа, а значит и премия долой. Во время рейса кэп всё время упрекал меня в несостоятельности, недальновидности, халатности: бочки-то ведь не хватало. В Таллинне своими стрелами разгружались на причал. Для внутренних нужд разбили одну бочку и списали. Это допускалось! Пересчитали остальные — одной бочки не хватает. Я не стал сдавать в пароходство отчёт за этот рейс. Оставил документы приёмщику и пообещал за безубыточную приёмку хорошую выпивку. Почти сразу мы ушли на Ригу. Вернувшись в Таллинн, побежал к приёмщику. Его на месте не оказалось, но в ящике стола лежали подписанные документы на все две тысячи бочек! Оставил записку: «Жду вечером на семнадцатом причале». Сабантуй вышел небольшой, но качественный. После некоторого возлияния спросил приёмщика, как ему удалось «спихнуть» бочку? -- Бочку? — усмехнулся он, — бочка — ерунда. Вот вагон — это сложнее, но и то можно сделать. В порту множество бочек, привезённых траулерами с Атлантики. Когда норвежскую сельдь грузили в вагон, закатили вместо недостающей бочку с Атлантики. При погрузке бочки считают, на надписи никто не смотрит, а по размеру они все одинаковые. Сколько перевалок на железной дороге сделают эти бочки, — одному Богу известно. А на какой перевалке одна бочка заменилась другой, и вовсе не докопаться. Торгаши сактируют. На следующее утро я торжествующе сунул под нос кэпу грузовые документы. Он с некоторым удивлением посмотрел на них и на меня, назвал меня «жуликом», но от премии почему-то не отказался.
Пятое колесо
В ту пору, будучи вторым штурманом, я отвечал за груз. Из Калининграда в Таллинн доставили части портального крана, очень нужного порту. Монтажники тут же приступили к его сборке. За рейс к нам претензий не было, по документам всё в порядке, да и части крана — не бочки с сельдью, воровать не будут. Мы спокойно сделали несколько рейсов, как вдруг меня вызывают к главному инженеру порта. -- Мне неприятно вам это сообщать, но у привезённого вами портального крана нет четвёртого колеса. -- Как нет? — вытаращил я глаза, — ведь по документам всё в порядке, «мест в споре» нет. -- «Мест в споре» нет, но и колеса нет, а накладной его не заменишь. Тут я вспомнил, что ни в Калининграде при приёмке, ни в Таллинне при сдаче груза никто мест не считал, полагая, что воровство каких-либо частей портального крана начисто исключено. Повальное воровство металла в ту пору до нас ещё не докатилось. -- Сомневаюсь, — продолжал главный инженер, — чтобы с завода-изготовителя кран был отправлен с тремя колёсами. Там это дело налажено, и ошибка исключается. Формально, по документам, претензии предъявлять не к кому. Но колесо-то нам нужно, без колеса, считай, и крана нет. У меня к вам просьба, поезжайте в Калининград и найдите там это чёртово колесо. С капитаном вашим я договорюсь, денег на дорогу и расходы дадим. Вы же сами понимаете, что официальный запрос вызовет никому не нужный скандал. Так что постарайтесь всё сделать тихо, без вмешательства большого начальства. При благоприятном исходе вашей миссии колесо доставят попутным судном. Если что, звоните сюда, диспетчеры будут в курсе. Конечно, я мог бы и отвертеться: формально я всё сдал полностью, а колесо «мыши съели». Но мне импонировала возможность принять участие в спасении порта и пароходства от скандала. Мне бы это зачлось в случае какого-нибудь инцидента, связанного с моим бойким характером. Добрался до Калининграда, сунулся в дом моряков. Такой есть в каждом порту. Примут, переночевать пустят. Плавсоставское удостоверение открывает вход и в дом моряков, и в порт, и даже без очереди к врачу в поликлинике плавсостава. Первые два дня поисков к успеху не привели. На погрузку части крана брали с причала. Но ведь их откуда-то привезли. Надо было найти, откуда? Складов в порту много, ящиков в них ещё больше. Хорошо, что я знал маркировку. Но без посторонней помощи было не обойтись. По старой, ещё тралфлотовской мурманской привычке, обратился к не шибко испитым бичам: -- Кто найдёт ящик, тому тут же бутылка. На следующий день к вечеру бичи ящик нашли. Правда, пришлось ставить не одну, а три бутылки, — бичей было трое. На радостях согласился, да и сам с ними выпил. Теперь ящик надо было изъять из общей кучи на складе и перевезти куда-нибудь, где можно спрятать в ожидании судна. Кладовщик мог возникнуть и не отдать ящик. Об этом я и поговорил с бичами. Они обещали «сделать». «Сделали!». Уж как там они с кладовщиком договорились, не знаю. А может, и не договаривались вовсе, но ящик оказался на дальнем причале, в сторонке, и не вызывал ни у кого никаких вопросов. Теперь оставалось ждать судно. Позвонил диспетчеру и услышал от него: -- Жди, скоро заберём, — и он назвал судно. Когда судно пришло, я легко договорился за бутылку с автопогрузчиком. Он без всяких осложнений перевёз ящик к борту, и его погрузили на палубу. Судно шло на Ригу, потом на Таллинн. Я добрался домой поездом гораздо раньше этого судна. Сообщил главному инженеру порта о предстоящем прибытии груза, чтоб встречали. Дождался своего родного судна и продолжил трудовую деятельность. Много времени спустя заглянул по делам к главному инженеру порта. Вспомнили «колёсную историю». И вот что он мне рассказал. Оказалось, что колёс у привезённого нами крана было всё-таки четыре! Просто одно колесо почему-то было упаковано вместе с крановым гаком. На таре была маркировка гака. Гак, как известно, крепится на место в последнюю очередь после опробования ходовой части. Поэтому-то ящик с гаком и не вскрывали, а подняли шум об отсутствии колеса. Поставили прибывшее отдельно пятое колесо. А четвёртое обнаружили, когда вскрыли ящик с гаком. Четвёртое колесо оказалось лишним. -- А куда же вы дели лишнее колесо? — поинтересовался я. -- Да никуда, лежит на складе. -- Так отправьте обратно. -- Калининград не запрашивает. Займись отправкой сам, если хочешь. Я не захотел. Но интересно бы узнать, как вывернулись хозяева того крана, колесо которого мне пришлось умыкнуть со склада? Продолжение следует
Валдай. 2000 год |