



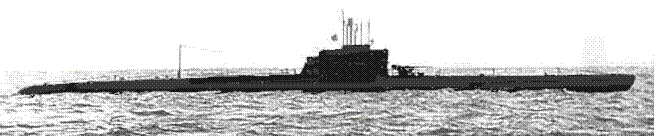
© Клубков Ю. М. 1997 год
|
|
  |
 |
|
|
© Клубков Ю. М. 1997 год |
|||
|
Маталаев Никита Львович — истинный петербуржец, но волею военной судьбы много лет живет в Севастополе. Он уже привык к этому и любит Севастополь, ставший тоже родным городом. Свято хранит верность подготскому братству. Был командиром подводной лодки 613 проекта, имел прекрасную перспективу служебного роста, но роковая случайность изменила его судьбу. Он стал начальником разведки дивизии подводных лодок, а затем скитальцем морей, побывав во многих странах мира. Настоящий моряк, опытнейший штурман. О своей жизни, службе и морских путешествиях, а также о непростом пути “от старшего офицера до старшего матроса”, он с откровенностью повествует в “Воспоминаниях Никиты… (с “картинками”)”.
Никита Маталаев ВОСПОМИНАНИЯ НИКИТЫ (с “картинками”)
Преамбула
В соответствии с “Обращением к однокашникам” от 7 апреля 1997 года воспоминания мною написаны, даже с “картинками”. Очень сожалею, что не коротко, хотя и мог бы по-анкетному. Но просили литературно ответить на все ключевые вопросы. Работа заняла два месяца с момента получения “Обращения...” на руки. Писал вечерами на вахте в каждый четвертый день без переделки, только переписал в тетрадь для удобства отправки. Всё написано одним духом по памяти, так как никаких записей, кроме антарктического дневника в 1956-1957 годах, не вёл. Поэтому возможны неточности в именах и датах, но, надеюсь, небольшие и несущественные. Проверить, уточнить не могу — живу не в Питере. Когда получится посетить Родину, — не знаю. Там, где сомневался, ставил в скобках знак вопроса (?). Писал откровенно, как “на духу” перед однокашниками: и о плохом, и о хорошем, — не сочтите за хвастовство.
Детство Никиты, которое кончилось ещё в блокаду
Родился 28 сентября 1931 года в Ленинграде (роддом — улица Маяковского 5) в семье русских интеллигентов. Мать — преподаватель музыки и пения. Её родители — тоже петербургские учителя музыки. Мама проработала всю жизнь в школах, имела две медали трудовой доблести и медаль “За оборону Ленинграда”. Умерла в 1976 году, похоронена на Охтинском кладбище. Отец происходил из семьи ремесленника-кустаря города Великий Устюг. Сумел выйти в музыканты: окончил Ленинградскую консерваторию по двум специальностям — скрипка и дирижирование. Работал в театре “Ромэн”, в Мосгосконцерте и других местах. Не воевал. Вероятно, уже умер. Родители пытались сделать из меня Никколо Паганини. Я “перепилил” пару скрипок, честно “испражнялся” на фортепьяно и любил это, но дальше джазового лабуха не вытянул и ... вот стал моряком. Формально родители развелись в 1933 году, но до войны ежегодно летом совместно выезжали подработать на “гастроли” на юг (ох, уж эта богема!), где я плескался в Днепре или в Азовском море. Предполагаю, что первоначальную робкую, а, может быть, и твёрдую, большую, перспективную любовь к морю во мне зародили мой дядюшка — капитан десятитонной крейсерской яхты “Совет” Ленинградского яхтклуба и двоюродный брат — радист той же яхты, на которой, кроме частых прогулок до Петергофа и Сестрорецка в “Маркизовой луже”, я совершил свой первый “дальний” рейс до Таллинна летом 1940 года в девятилетнем возрасте. Кроваво-коричневая туча войны разрушила тщеславные планы моих родителей сделать из меня музыкального гения. Летом и ранней осенью 1941 года мы — пацаны (огольцы) с Кирочной (улица Салтыкова-Щедрина) собирали осколки и боеприпасы для своих коллекций и кое-что взрывали. Собирали жёлуди в Таврическом саду для изготовления смешных человечков (зимой мололи их на “кофе”), бегали по магазинам, стремясь полнее отоварить карточки, собирали патоку на догоравших Бадаевских складах, ползали на нейтральную полосу в районе Волкова кладбища за картошкой. При этом еще учились (я в 4-ом классе) сначала в школах, а затем по бомбоубежищам. Ближе к зиме, когда понятия “война”, “блокада” перестали быть детскими, игральными и становились кровавыми, приносящими реальную боль, разносили по квартирам записки — приказы штаба МПВО (местной противовоздушной обороны) о дежурствах, поддерживали связь с постами в качестве рассыльных, торчали на крышах, наблюдая “Юнкерсы-88” в перекрестьях лучей прожектов и даже ... участвовали в тушении зажигалок. Меня всегда возмущало хвастовство некоторых моих одногодков: “Я тушил зажигалки!”... Ну как мог десятилетний худосочный пацан поднять железные двухметровые щипцы для захвата зажигалки или тащить большое пожарное ведро с мокрым песком или водой?! Да, помогали, шуровали лопатой в меру своих сил, что-то подносили, то есть именно участвовали в тушении, а не тушили. Днем ходили смотреть, что где разбомбило, завалило, куда упал немецкий самолёт, где попал снаряд. А ночью, перестав спускаться в бомбоубежище, дрожали в тёмной холодной комнате, сжимая свои детские кулачки при вое падающей бомбы (а днем — снаряда) и молитвенно повторяя: “пронеси, пронеси, пронеси”... Зимой выстаивали сутками в очередях за хлебом: 125 грамм моих плюс 125 грамм маминых равно 250 грамм, которые дома размельчали в воде и варили “тюрю”. Других продуктов уже не было совсем... Какое-то время мать работала в госпитале на Греческой площади. Я очень хорошо помню, как выстаивал в очереди за хлебом двое или трое суток. Было это в ленинские дни — 21-24 января 1942 года. А хлеб всё не везли и не везли, а мы всё мерзли и мерзли, и некоторые падали тут же в очереди. Когда, наконец, стали выдавать хлеб, один мальчишка, которого я до войны знал то ли по школе, то ли по двору, вырвал у бабульки (хотя, может быть. это была и не бабулька, а просто взрослая женщина, изнурённая голодом до вида “старухи”) её пайку из рук и перебежал через дорогу. За ним бросился проходивший мимо сержант, настиг его, хотел бить и даже разок ударил, но мальчишка, привалившись к стене дома и старательно оберегая голову от ударов, запихал всю эту пайку (всего-то 125 грамм!) в рот и старался быстрее ее проглотить. Так и стояли над ним, свернувшимся в “мёртвой защите” у стены дома и дожёвывающим чужой хлеб, молча, жалостливо-осуждающе и пострадавшая ''бабулька'', и сержант, и я. Голод оправдывал воровство мальчишки. Это все понимали, хотя ''бабульке'' было очень жалко отобранной пайки: она-то оставалась голодной и, может быть, сделала последний шаг к могиле. К сожалению, такие случаи были не единичны. Еще несколько штрихов к понятию “голод”. Слухи о том, что убивают людей, особенно женщин, отрезают у них самые мягкие, “мясные” части тела и съедают их, для меня были не просто слухами. Разрезанных трупов лично не видел, но однажды зимним вечером при возвращении от маминой подруги за нами на безлюдной заснеженной Кирочной кто-то гнался. С какой целью?!... Перед ноябрьскими праздниками, когда все же как-то отоваривали карточки, мы по мясным талонам взяли в магазине студень (только питерцы и настоящие россияне называют так холодец). Дополнительно купили кусочек студня у тетки, стоявшей у магазина. Дома в этом кусочке обнаружили детские ноготки. Несмотря на голод и жгучую обиду, студень выбросили. Собаки, кошки и крысы из города исчезли. Кота, который жил у нашей крёстной на Загородном проспекте 17 лет, съели... Во время блокады милиционеры были экипированы не хуже теперешних ОМОНовцев: кроме обычных шинелей, сапог и прочего, на головах у них были жёлтые английские каски — тарелки, на плечах — карабины, на боках — широкие ножи-штыки, пистолеты, противогазы. Их основная задача — борьба с бандитизмом, мародёрством, воровством. В булочной, когда там скапливались очереди, постоянно стоял милиционер, который, глотая голодную слюну, следил за порядком, предупреждал воровство во время выгрузки хлеба и его раздачи. Картинки зимних блокадных месяцев: открытые во многие квартиры двери, всё деревянное сожжено, ступени с замороженной мочой и калом; трупы не только у подъездов, под арками, но и на лестничных площадках, в лучшем случае завёрнутые в простыни; тропинки на улицах по маршрутам к воде, магазину, дому; застывшие троллейбусы, трамваи; воронки от снарядов, рассечённые от верхних этажей до подвалов дома; метровые, вроде бы даже аккуратные, дырки в стенах от снарядов; еле двигающиеся закутанные во всё возможное фигуры и метроном в тарелке репродуктора, отсчитывающий многим последние минуты... Несколько эпизодов, картинок той поры. Знакомство со взрывной волной. Как-то умывшись и вытираясь я подошел к окну нашей узкой комнаты. Первый взрыв снаряда на улице отбросил меня в середину комнаты, второй — к дверям, а третий — приподнял и вынес через переднюю на лестницу, волшебно открывая передо мной все двери. Я не ударился, не впал в оцепенение, не стал контуженным, но тело моё некоторое время ощущало невесомость и удивление необычностью происшедшего. Осенне-зимний солнечный день с легким морозцем. Иду в школу по улице Красной Конницы, воздушной тревоги нет, не объявлено, но в небе “резвятся” два самолёта: наш и немецкий, гоняются друг за другом. Вдруг — в правое ухо резкий свист и что-то обжигает правую ступню. Рассмотрел — осколок прошил ботинок и зарылся в асфальт. До сих пор у меня мизинец правой ноги красный, “не форменный”, поджаренный. Миллиметры левее и я, в лучшем случае, без ноги, или... Объявили, что наш Смольнинский район будут сегодня бомбить. Ушли из дома к маминой подруге на Пушкинскую улицу (врезается в Невский между улицей Марата и Лиговской). Ночью нас трясло так, что мы думали не выберемся (в бомбоубежище, как всегда, не спускались). Когда на следующее утро вышли, увидели рядом вокруг скверика, где стоял памятник Пушкину, два или три расколотых дома с вывернутыми наружу коммунально-квартирными внутренностями. Да и на нашем перекрестье Кирочная - Таврическая (ул. Слуцкого) - Таврический сад было немало разрушений. Когда ещё не все вражеские агенты-ракетчики были выловлены, они подавали сигналы, и пятиэтажное административное здание на углу Советского (Суворовского) проспекта и улицы Красной Конницы, ставшее в войну госпиталем, немцы забросали зажигалками и фугасами. Здание горело большущим костром, пожарищем. Раненые прыгали вниз, кого ловили, кого нет. Здание больницы (гарнизонного госпиталя), напротив через проспект, обливали водой пожарные машины. Следует отметить, что ленинградцы были подготовлены к войне, так как уже имели некоторый опыт финской войны 1939-1940 годов. Это быстрое переоборудование больниц и школ под госпитали, наличие противогазов не только у населения, но и для лошадей, различные заготовки для МПВО и самой обороны города, уже оборудованные бомбоубежища с написанными ещё прошлой зимой указателями, система оповещения и многое другое. Кое-что создавалось вновь. Об этом вспоминать и писать можно много. Несмотря на более полувековой срок с тех пор, некоторые эпизоды, штрихи, картинки отпечатались и остались в памяти довольно-таки чётко. Жизнь шла — не только существование, но и борьба, сопротивление, оборона. От голодной смерти, хотя я и переболел так называемым голодным поносом, меня спасло только то, что мать зимой устроилась воспитателем в детский интернат, прихватив туда и меня. Все-таки питание было получше. Несмотря на полную блокаду города, детям отдавали лучшее. Да и их матери — вожатые, кондукторы, персонал трамвайного парка имени Смирнова, которые запрягшись в большие сани, собирали по подъездам, дворам и прямо на улицах трупы и вывозили их на братские кладбища, находили на окраинах города то мёрзлую капусту, то полусгнившую картошку и даже однажды принесли живую курицу для всех. Из неё был сварен замечательный, настоящий бульон. Незадолго до этого врача интерната, зажавшего от детей 300 грамм рыбьего жира, арестовали и, видимо, расстреляли. Хочу отметить две особенности малолетних детей (от двух до семи лет) этого интерната. Первая — большая организованность, дисциплинированность: каждый знал свой шкафчик, противогаз, по тревоге быстро одевались и строились в пары, без шума спускались в бомбоубежище. Вторая — нескончаемые разговоры о том, кто что ел до войны. Даже ранее нелюбимая манная каша в их разговорах становилась желанным деликатесом и приятным воспоминанием.
Урал и возвращение
И все же в марте-апреле 1942 года, хотя хлебная норма стала увеличиваться, мы с матерью эвакуировались. Получив две буханки “дальнобойных” по карточкам за несколько дней вперёд и по эваколисту сухой паёк на дорогу и еле удержавшись, чтобы их не заглотать сразу же, мы втиснулись в автобусы, окна которых были забиты фанерой. Оказавшись в полной изоляция от внешней обстановки, под разговоры о том, где, кого разбомбило и кто, когда нырнул под лёд, мы “дорогой жизни” по льду Ладожского озера пробирались ночью между сугробами и воронками-разводьями под хлёст зениток и не очень далёкие взрывы бомб и снарядов. В Волхове погрузились в железнодорожный товарняк и целый месяц плелись до Урала, иногда под бомбёжками, по пути сдавая на станциях объевшихся и поносных, заболевших и умерших. На Урале, в городе Красноуральске, эшелон разгрузили. Нас прокатили на санной тройке и распределили по двухэтажным баракам на карантин. Надо отметить, что и встреча, и баня с дезинфекцией, и распределение — всё было организовано чётко и делалось быстро. Кормили в карантине, который длился целый месяц, очень хорошо. Не просто кормили, а откармливали. И это тогда, когда сами уральцы явно не “жировали”. Такое было государство, такая была власть и такие были бескорыстные исполнители. Затем мы оказались в Магнитогорске. Мать пошла работать в школу по своей специальности, а я летом закончил четвёртый класс, который недоучился в блокаде. Были организованы специальные летние занятия. Осенью, не потеряв ни одного года и даже имея год в запасе, так как пошел в школу с семи лет, благополучно продолжил учебу в пятом классе. Магнитогорск — город трудовой. Всё было подчинено металлургическому комбинату, домнам, железорудной горе Атач и лозунгу “Всё для фронта, всё для Победы!”. Нас, учеников, в обязательном порядке посылали летом в совхозы и колхозы. Не на субботу — воскресенье, не на неделю, а на всё лето. У нас были почти взрослые нормы, рабочие карточки и вполне взрослая оплата трудоднями и даже деньгами. На трудодни выдавали зерно или овощи. И опять-таки отмечаю хорошую организацию: и оборудованный под жильё амбар (вполне пригодный), и сказочное питание (утром и вечером — молоко по распоряжению правления), и даже культурные вечерние посиделки, иногда кино. Раз в месяц нас отпускали домой. Шли пешком 20-30 километров, иногда добирались на попутных машинах, но чаще — на телегах. Я, вооруженный двумя-тремя большущими круглыми буханками белого хлеба и кое-какими овощами, сэкономленными или выданными опять-таки правлением, гордо, по-рабочему входил в комнату и произносил: — Прими, мать!... Так что вполне трудовую жизнь я начал с 1943 года, то есть в двенадцать мальчишеских лет. Летом 1944 года я трудился на своих десяти сотках, выделенных матери на другом берегу реки Урал. Почти ежедневно ходил пешком шесть километров туда и шесть километров обратно через заводской мост, чтобы обрабатывать участок. В качестве вознаграждения подкапывал и пёк на костре картошку, а когда поспевали и другие культуры, варил что-то вроде овощного рагу. В уральский период моей жизни были ещё два события, которые нельзя обойти вниманием: одно — положительное, другое — отрицательное. Начну с плохого: связался с мелкой местной шпаной. Как и везде, у нас в районе был свой “король”, которому мы все подражали. Бывал в бегах и доезжал до Челябинска, промышляя на еду любыми способами. Но, к счастью, всё обошлось благополучно, не затянуло и быстро сошло на нет. Второе, которое с плюсом, — подавал заявление и очень серьёзно собирался уехать в школу юнг, проявив ещё раз стремление стать моряком. Еле отговорили мать и учителя, вернее, просто запретили. В августе 1944 года мы с матерью возвратились в Ленинград, и началась моя безалаберная жизнь. Учились (я уже в седьмом классе) в три смены по 40 человек в классе. Контингент смешанный, много переростков, забывших почти всё и на два-три года отставших. Опять-таки были приблатнённые ребята, просто разнузданные и издёрганные войной и блокадой. Я посещал школу только “по моему хотению”: то осваивал новый (восстановленный) маршрут трамвая, то “проверял” правильно ли пустили троллейбус, то целый день гонял в футбол на Прудах, то на выезде за город собирал боеприпасы и трофеи, то ... ну, и так далее и тому подобное. В результате в первой четверти по всем предметам был не аттестован или мне поставили двойку. Только по географии получил “четыре” за единственную раскрашенную, “поднятую” на пятёрку контурную карту. К радости многих, нас рассовали в восстановленную школу уже в две смены. В остальных четвертях я несколько подтянулся, решил позаниматься. Учёба мне всегда давалась легко, экспромтно. На домашних заданиях я долго не задерживался. Дело пошло (“процесс пошёл”). Однако, весной 1945 года, сдав предыдущие экзамены на “четыре” и “пять”, историю классически завалил, а сдавать немецкий (последний экзамен) не поехал, так как в Вырице, где моя мать уже работала директором пионерлагеря, начались футбольные баталии и без моего участия они никак не могли проходить. Короче говоря, имея в запасе целый возрастной год, я решил седьмой класс начать снова, чтобы иметь хороший аттестат (тогда это было очень важно). Мать одобрила, и я, заглотав пионерскую булочку, умчался на футбольное поле, уже совершенно не думая ни об учёбе, ни, тем более, об экзаменах. В мае 1945 года в день Победы я выпил в первый раз какого-то ленинградского вина. Покуривать “охнарик по кругу” начал еще в 1943 году в колхозе. Кого-то мы тащили, где-то сидели, потом смотрели в кинотеатре “Титан” “Человек №217” — нудный фильм о концлагере, отоспались и благополучно возвратились по домам, получив в награду материнские затрещины. А ночью меня, и моего двоюродного брата (мы жили тогда у тёти в районе 9-ой Советской) подняли дяденьки в кожаных регланах. Брата увезли на площадь Урицкого в Ленинградский уголовный розыск. Мы с тётей помчались туда и к концу следующего дня получили назад целенького брата. Оказалось, что пистолет “Вальтер”, из которого мы упражнялись в стрельбе за городом, на чердаке и даже в квартире, побывал “в деле”, вот и раскапывали, как он к нам попал. Так как наличие оружия у питерских огольцов — дело обычное, и учитывая наше безупречное пионерское прошлое и малолетство (правда, брату уже было за 16), всё обошлось. К осени 1945 года я подошёл повзрослевшим, несколько отъевшимся, более серьёзным, учился уже хорошо. К этому времени мы получили комнату на Старорусской улице дом 5/20 (в конце 8-ой Советской) взамен занятой на Кирочной, и я снова перешёл в другую школу. Сдал все одиннадцать (!) экзаменов и окончил седьмой класс с неплохим аттестатом. Повторение мне пошло на пользу. В этот период я, кроме футбола, ещё играл на домре в струнном оркестре Дома пионеров и школьников, ходил в художественную студию — кружок на Таврической улице и даже пробился в начальство — стал начальником штаба пионерской дружины школы. Вероятно, судьба мне преподнесла этот высокий пост с целью опробования или даже выработки командирских навыков. Помню, что обязанность эта была очень хлопотной, обременительной, однако были и свои выгодные стороны: в зимние каникулы нас, “командный состав” школ, собирали в лагере на Крестовском острове. Кроме обучения как руководить пионерией, вечерами были творческие посиделки — “костры”. Здесь я впервые встретился и познакомился с Ильёй Эренбургом — нашим будущим подготом, и его стихами. Руководил пионерской дружиной школы уже будучи комсомольцем, вступив в ВЛКСМ в четырнадцать лет, чем был страшно горд. Полученный аттестат заставлял задумываться, куда идти дальше. Желаний, стремлений было несколько: первое — в АХРУ — архитектурно-художественное ремесленное училище, так как имел склонность к графике, любил всякие орнаменты, строгие рисунки; второе — стать преподавателем математики в начальных классах, потому что любил алгебру, геометрию и особенно тригонометрию, плюс мамины гены; третье — стать моряком, причём привлекала меня мореходка, будущие дальние странствования. Но тут я встретил своего одноклассника по первому году обучения в седьмом классе, который обогнав меня, уже закончил первый курс ЛВМПУ. Он меня покорил всем: и формой, и рассказами о том, как там кормят, чему обучают и даже пускают в город. Я загорелся, я воспылал, я понял, что без моря жить не могу, а оно без меня тоже. Детская любовь к морю вспыхнула с новой силой! В доучилищный ленинградский период (1944-1945 годы) неоднократно была “первая любовь” (точнее, “самая первая” была ещё до войны в первом-третьем классах). Одна из них была коварна. Учились мы тогда раздельно и заводили знакомства только на совместных вечерах. Развитие отношений было целомудренным, медленным, как танго или вальс-бостон в исполнении духового оркестра. И ... опять же — совсем не было денег. Чтобы заработать, мы с братом ходили по знакомым и незнакомым, пилили и кололи дрова. Кроме того, часто получали работу от соседки, заведующей магазином, по оформлению “Норм выдачи по продовольственным карточкам” (тогда они постоянно менялись в сторону увеличения), за что вознаграждались чаще вкусностями (масло, хлеб) и значительно реже деньгами. Зарабатывали даже “на женщин”, а они иногда нам устраивали “козу”. В случае, о котором я рассказываю, на заработанные за две пилки дров 150 рублей я купил билеты в театр музыкальной комедии. Рассчитал всё точно: 100 рублей — билеты, 50 рублей — или два мороженых (тогда оно уже стоило 20 рублей вместо 35), или два стакана лимонада и провоз на трамвае туда и обратно. Так эта неоформившаяся семиклассница привела с собой подругу, которой пришлось покупать билет за 30 рублей на галёрку или какой-то ярус, где, конечно же, сидел я, а они вдвоём — в бельэтаже, чем лишили меня намеченного сближения в наших отношениях. Кроме того, пришлось оставить “любимую” без мороженого, маневрировать в антрактах так, чтобы буфет не попадал в поле зрения подруг, развлекать “на сухую” и ехать в трамвае зайцем. Через несколько встреч выяснилось, что она была верующей, и я, как недавно вступивший в комсомол, был вынужден вырвать её из своего сердца. Такую «подлянку» преподнесла мне «первая любовь»! Далее, во второй год седьмого класса, были по праздникам вечеринки в складчину. Была ещё карточная система, каждый приносил с собой что-то из продуктов, а на вино (!) сбрасывались. Но я, наученный горьким опытом, не позволял себе влюбляться серьезно. Забегая вперёд, скажу, что женский вопрос в моей жизни — смесь Мопассана с Бальзаком и некоторым налётом тургеневщины. Я всегда к женщинам относился с уважением и небольшой сентиментальностью.
Юность, училище, становление моряка
Итак, прорвавшись сквозь конкурс (11 человек на место), я поступил в ЛВМПУ — нашу родную Подготию. Худой, голодный, одетый в топорщущуюся робу «на вырост», в бескозырке без ленточки («албанке»), ростом — около 150 сантиметров, весом — чуть более 48 килограмм — таков был курсант-подготик. В первое время наши мамы прибегали на свидания и кормили нас из кастрюлек супчиком на лестнице в доме рядом с КПП училища. А мы — ушастенькие лопали взахлёб, вылизывая кастрюльки досуха, и загрызали чем-нибудь вкусненьким, домашним. Когда я был еще кандидатом в курсанты, мне пришлось отстаивать свои «права человека». В кубрик, где мы жили, часто заглядывали третьекурсники, которых уже распределили по высшим училищам, с целью улучшить свою экипировку или просто чем-либо поживиться (были и такие!). И вот однажды ввалились длинные «дяди», и один из них, позванивая медалями, «попросил» у меня «на сдачу» мой морской ремень с настоящей медной бляхой. Расстаться с ним, моей гордостью, я не мог, зажался зверёнышем, мертвой хваткой сцепился с двухъярусной койкой, не отбивался, но и не давал им возможности снять с меня ремень. Так и ушли они, не солоно хлебавши. Но в дальнейшем старшекурсники относились к нам снисходительно и даже доброжелательно. Для начала нас отправили в лагерь (на этот раз не пионерский) в исторический форт «Серая Лошадь». Запомнились мозоли от вёсел и обучение плаванию. Так как я уже «умел плавать», меня назначили страхующим, но, слава богу, мне ни разу не пришлось кого-либо спасать, а то бы ... Прыгать в воду нас учили примерно, как в «Ералаше»: «Какая стерва меня столкнула?!». Худо ли, трудно ли, но мы получили первую физическую и морскую закалку и из лагеря возвратились несколько возмужавшими и не такими голодными. Так как часть здания училища была разрушена и ещё не восстановлена, в первый год мы занимались и спали в классах, на день складывая постели в угол. Помню, что ныне покойный Орест Гордеев, залезая в матрасы после ночного дневальства, не помещался там. Торчали его костлявые ноги и иногда раздавались неприличные звуки. После занятий мы работали. Кто на мебельной фабрике, кто на заводе, где выделяли кирпич для училища, кто непосредственно на восстановлении здания. Разгружали баржи с дровами и овощами на Фонтанке. Первый год — сплошная бурса, те же «шутки»: ночные «велосипедики», перенос спящих с койкой в гальюн, опускание мужского достоинства в чернильницу и тому подобное. Но очень быстро это отошло, куда-то сплыло. Иногда во двор училища въезжал «воронок» (автомобиль с окнами «в клеточку»), входили «кожаные» оперы и кого-то увозили с собой. Выяснялось, что нынешний курсант еще в 13 лет «лепил скачки» (был вором-домушником) или делал «гоп — стоп» (стоял в подворотнях с широким немецким штыком и грабил). Пытавшихся воровать у своих били нещадно. Некоторым урок помогал, некоторые исчезали. Всё это утряслось, просеялось также примерно за год, хотя потрясший всех случай был уже на первом курсе высшего училища, когда к нам перевели бывших нахимовцев, в том числе рижских. Жили-были два друга: Коля Арбузов и Рэм Васильев, крепко дружили, в отпусках детдомовец Арбузов гостил у Васильева, помогал, когда у Рэма не было денег. И вдруг выяснилось, что Коля Арбузов воровал мелочевку (якорьки точёные, авторучки, деньги и тому подобное) не только у курсантов-товарищей, но и у лучшего друга Рэмки Васильева. Еле удержали народ от серьёзного и жестокого самосуда. Больше всех был потрясён сам Васильев. Арбузова судили и дали, кажется, десять лет. Надо сказать, что в первые годы мы все были нервными, неуравновешенными, издёрганными войной. Были взрывы эмоций, потрясения, драки. Как-то, ещё в самый первый год, мы повздорили в строю с Валькой Сидякиным. От ярости сознание у обоих помутилось и то ли я его, то ли он меня пырнул ножом по рукам. Оба были в крови, но злость тут же схлынула, мы помирились и даже позже подружились.
Высшее училище: служба, учёба, командиры и преподаватели
Семь лет, проведённые в училище, нельзя разрезать на кусочки, это целостные семь лет жизни, хотя основные этапы можно выделить: три года — Подготия, затем первый — второй курсы высшего — общее обучение на вахтенного офицера, далее третий курс — разделение по специальностям: штурман, артиллерист, минёр, и, наконец, с середины четвёртого курса — первые превращения штурманов и минёров в подводники. Каждый год приносил нам что-то новое, мы становились взрослее, серьёзнее, крепче, мужественнее, набирались опыта. Характерно то, что курсанты трёх курсов: 45-48-52, 46-49-53, 47-50-54 шли лагом не один год, были дружны, притирались в спорте, самодеятельности, просто на отдыхе в городе или на танцах, всегда и в училище, и уже на флотах, поддерживали друг друга. У меня были друзья со старшего курса по увлечению мотоциклом — Володя Тимашёв и Саша Клафтон. Много близких товарищей с младших курсов по училищной самодеятельности, конькобежному спорту. Да, не удивляйтесь, я примерно четыре года (1949-53) увлекался беговыми коньками, ходил на тренировки (хотя у нас практически не было тренера) и входил в состав сборной училища. Был готов пробежать на второй разряд, но соревнования не состоялись, так как были назначены на 5 марта 1953 года, когда страна впала в многодневную и даже многолетнюю скорбь. На протяжении всех семи лет я был в первой роте в 12-х классах (112,212,312,412). Всех преподавателей чётко не помню, но, конечно же, в памяти остались молодая и розовая от смущения англичанка Идея, очень строгая, но справедливая математичка, преподаватель литературы Иосиф Меттер; более смутно — капитан 3 ранга, преподаватель ЭНП, который поблескивая лысиной и стреляя в нас указкой, показывал прецессию оси гироскопа; преподаватель военно-морской географии капитан I ранга Сутягин, зародивший во мне разведчика; преподаватель военно-морской истории полковник (не Гельфонд), которого я позже встречал в Севастополе, и капитан 1 ранга Лонцих. А вели нас по началу морской жизни, воспитывали отцы-командиры, всегда дорогие и родные нашим сердцам: бессменный ротный — Семён Павлович Попов, капитан-лейтенант по прозвищу «Максюта», капитан-лейтенант Костин, начальник курса, а затем факультета — капитан-лейтенант (позже — капитан 2 ранга) Иван Сергеевич Щёголев, начальники училища капитаны 1 ранга Авраамов Николай Юрьевич (дворянского происхождения) и Никитин Борис Викторович, начальник кафедры навигации капитан 1 ранга Новицкий, также дворянин. Среднее звено воспитателей: старшина роты Петя Евтухов, всегда нервный мичман Иванов, которому приписывали высказывание: — «Когда я хочу выругаться, я говорю «Пендюрин»». Так использовалась фамилия Саши Пендюрина, который, благодаря особому строению лица и, особенно, носа всегда имел недовольный вид, даже когда улыбался, за что и пострадал на выпускных экзаменах сталинских времён. Вероятно, были и другие воспитатели, имена которых так же, как и имена преподавателей, подзабылись. Вначале дружил с Ильей Эренбургом, с которым сидел за одной партой, Андреем Поповым (?), который через год куда-то исчез, Вовкой Куликовым, упомянутым выше Валей Сидякиным, Славкой Коротковым, Юрой Олехновичем. Всех не могу вспомнить, да и за достоверность перечисленных не ручаюсь. Но после подготии, уже в высшем училище, сложилась у нас крепкая тройка: Эрька Ильин, я и Славка Кулешов (не буду упоминать: «ныне ушедший от нас» и тому подобное, так как пишу об ушедших, как о живых, о том времени, когда они были в этой жизни). В более расширенную компанию единомышленников (любителей потанцевать, пообщаться с девушками и «не дураков выпить») входили Игорь и Миша Лезгинцевы, Жора (Вова) Спасский, Женя Юдин, Саша Гаврильченко, Толя Кюбар, Вилька Холмовой, Аркаша Копейкин, Коля Калашников и многие, многие другие (простите, если не упомянул). Сборища по праздникам устраивали на квартире у Сергея Ерёменко («Есенина») на Большом проспекте Петроградской стороны. Стал нарицательным, анекдотичный монолог одного из его неожиданно возвратившихся родителей: «Я пришёл к советской молодежи, попить чаю, попеть песен, а что я вижу?! ...». Что родители увидели, трудно описать вразумительно. Собирались также у Лезгинцевых в Кирпичном переулке, у Жоры Спасского в бывшей гостинице «Англетер» на Исаакиевской площади, у Виталия Серебрякова в районе улиц Чайковского — Каляева (?). После ЛВМПУ Виталий ушёл на гидрофак в училище Фрунзе, а затем растворился в каких-то дипломатических службах. Бывали встречи у Лёши Кирносова, у Эдика Найделя, когда он был женат на дочке известного певца Ефрема Флакса («Закурю-ка что ли папиросу я ...»). Посещали и другие, в том числе и случайные «хаты». Прошу учесть, что мне труднее (и больнее!) все это вспоминать, так как я уже более десяти лет из-за нескончаемых преобразований и длительных моих плаваний не был в родном городе и кое-что начинаю просто забывать. Это вы можете сесть в метро, выйти на Невском или у Балтийского и пройти по знакомым и родным местам, а у меня — только старые фотозарисовки памяти ... Но свои многоликие прозвища помню, в чём и сознаюсь: «Костяк», «Коста» — от «Косточки», как меня нарёк брат за мою худобу, и производные от Никиты: «Ника», «Ник», «Кит». Надо отметить многонациональность наших подготов. В нашем классе большинство было русских, но были и украинцы — Дима Кандыбко и другие, евреи — Валя Фельдман, Муня Кириллов, Ефим Туник, Виктор Баскин, Давид Масловский, с которыми я учился ещё в школе в седьмом классе, был даже казанский татарин — Кадыр Шайхутдинович Гильмутдинов. В другом классе был питерский финн Юрка Реннике. А с приходом нахимовцев прибавились и латыши — Фелл Мартинсон и другие. Но мы этого совсем не замечали, у нас не было национального вопроса, у нас был один спор, одна тема: — «Какой город лучше, важнее, ценнее — Ленинград или Москва?!». Ленинградцев и москвичей было примерно поровну, а из других городов и из сёл — 10-20%. Поэтому дебаты всегда были жаркими.
Спорт, мотоцикл, самодеятельность и другие увлечения
Наше училище было сплошь спортивным, секции пронзали его сверху донизу, спортсменами становились как по любви и призванию, так и тотально по приказу. В секции бокса у тренера Ивана Павловича начинал заниматься будущий олимпийский чемпион и чемпион мира Геннадий Шатков. На уровнях ВМУЗов и ВМФ занимали призовые места наши баскетболисты, гимнасты, боксёры, борцы. Я — хиляк от рождения, занимался и боксом (бросил из-за музыки и художественной самодеятельности), и коньками, и гимнастикой, и плаванием, и греблей, и парусом, и легкой атлетикой. По некоторым видам спорта играючи получал третьи разряды. Разрядные значки в то время были по многим видам спорта. Мы ими очень гордились. На московском параде первая шеренга батальона нашего курса сверкала спортивными наградами. К сожалению, в дальнейшем такого спортивного энтузиазма не встречал. Кроме спорта и мотоцикла, в моих увлечениях были еще три кита: самодеятельность, модельный кружок и редколлегия. Времени на самоподготовку не хватало совсем. Я очень редко сидел в классе: то выступаем в каком-нибудь клубе или Дворце культуры, то махаю ногами на ледяном стадионе, то уехал за кистями и красками, то просто «ППР» (постояли, поговорили и разошлись) над стенгазетой в укромном, своём уголке. Итак, художественная самодеятельность. Полтора-два года занимался в музыкальном кружке на фортепиано. Играл в струнном оркестре училища на аккордеоне. Мне был выдан клубом в личное пользование и под личную ответственность полный аккордеон «Ноhпег». Выступал сольно и в паре с Толей Балаухиным (баян) на курсовых вечерах со всякими поппури-фантазиями «на тему». Аккомпанировал на рояле танцорам — венгерский танец и дуэт Фоки и Филиппа из оперетты «Вольный ветер» в исполнении Вити Пескарёва и Тошки Сенюшкина. Сопровождал музыкой чечётку Жоры Спасского. Подыгрывал фельетонистам, когда «заболевал» «автор у рояля» Лёша Кирносов, а политсатира должна была всё-таки выплёскиваться в массы Вилей Холмовым и Геркой Гойером. Создавал джазовый шум за сценой в какой-то постановке, в которой участвовал будущий народный артист России Иван Краско. Кто-то из курсантов сложил про нас шутливый стих: «Крышка весело открыта, у рояля — сам Никита, под его занудный вой, стонет Виля Холмовой». Как личности, «близкие к искусству», организовывали с Вилей и ночные закрытые танцы в каком-нибудь клубе или школе с приглашением студентов и джазистов с их лидерами: Виталием Понаровским (будущим папочкой Ирины) и, кажется, Александром Броневицким (бывшим мужем Эдиты Пьехи). Кстати, в лейтенантах мы с Вилей продолжили политсатиру вдвоём, как Шуров и Рыкунин, — выступали с фельетонами Лёши Кирносова на смотре самодеятельности 153 бригады лодок. Прорывались и на флотский смотр в Севастополе. Одноклассником Юрием Фёдоровым был организован судомодельный кружок, в который входили Вовка Спасский (Жора), Игорь Лезгинцев (?), я, «дед Щукарь» (курсант небольшого роста, фамилии не помню) и Ваня Сорокин (или Соколов) с младшего курса. Юра стал знаменитым, действительно талантливым моделистом — будущим командиром исторического крейсера-музея «Аврора». Модели он делал из слоновой кости и золота: модель крейсера «Ворошилов» ко дню рождения Климента Ефремовича, какую-то модель к 70-летию И.В. Сталина. Особенно любил Юра парусники, хорошо разбирался в них и знал историю каждого. Мы же вначале просто помогали Юре черновой и неквалифицированной работой. Я, например, разграфлял и рисовал квадратики 1х1 миллиметр — плитки на палубе камбуза нашего парусника «Учёба», модель которого была выполнена Фёдоровым. Ездили за материалом на завод в устье Невы, производивший торпедные и командирские катера, яхты (красное дерево!). Копались, разбирая подвалы и чердаки в военно-морском музее, который в то время возглавлял шеф и учитель Юры — капитан 1 ранга Юрьев, в поисках чего-нибудь подходящего для моделей. Затем нам отвели помещение (простите, бывшего гальюна). Мы оборудовали его двумя-тремя станками и начали изготовлять и оформлять стенды — карты Кольского залива. Белого моря, Севморпути и так далее с действующими (мигающими) маяками и бегущей лентой изображения берегов. Получалась движущаяся панорама для отработки пеленгования береговых ориентиров на ходу корабля. За это уже на флоте я получил денежную премию — перевод на 200 рублей. На руки в лейтенантах я получал 2400 рублей. Так нас «оценили». В один из отпусков, примерно в 1975-1977 годах, я приехал из Севастополя с семьёй на своих «Жигулях» и, отправив жену с сестрой по магазинам, поехал с сыном по музеям. Посетили военно-морской музей, а затем прибыли к «Авроре». У трапа увидели табличку «музей закрыт на ремонт». Моя настойчивость привела нас в каюту командира. Была радостная встреча, дружеские объятия с Юрой Фёдоровым. Он дал нам ключи, и мы самостоятельно обошли все музейные помещения, где не менее 70-80 % моделей были произведениями самого Юры. Большой интерес проявил не только мой 11-13-летний сын, но и я — «старый революционер». В редколлегию роты (или курса) входили те же лица, та же «компашка»: Игорь Лезгинцев, Жора-Вова Спасский, и я. Иногда вливался кто-нибудь из комсомольских активистов — для сбора заметок и общего формального руководства. Каждый был талантлив в своём: Игорь и Жора рисовали (Игорь — классику, Жора — карикатуры), я делал надписи, заголовки, графику и общее размещение. Всех объединяло абсолютное нежелание сидеть в классе на самоподготовке или «выводиться» на вечернюю прогулку. Газеты мы выпускали красочные, интересные, карикатурные. На конкурсах занимали призовые места. Однажды я машинально нарисовал И.В. Сталина на трибуне мавзолея, отдающего честь... левой рукой. Представляю, где бы мы были, если бы кто-то заметил, обнаружил эту «крамолу». И моделизмом, и художеством мы занимались и на практиках: создавали «тяп-ляп» модели кораблей, на которых проходили практику, расписывали каюты под дерево, делали всякие стенды не только для командиров БЧ-1 и старпомов, но и для замполитов, ибо цель была одна — особые условия, спокойная жизнь и «отлично» за практику.
Военная служба без парадов не бывает
Большое место в нашей жизни занимали парады: каждый май и каждый ноябрь. Лично я участвовал в одиннадцати парадах, из них один или два — московских: в мае 1950 года и в мае 1952 года (почему-то не могу точно вспомнить, в двух парадах я участвовал или только в одном). Каждый парад — это усиленная, изнуряющая строевая подготовка в течение двух месяцев, общие обычные и генеральные репетиции за месяц и сам парад. В Ленинграде в этот день вставали очень рано — в 04.30-05.00, плотно завтракали, тепло одевались (под форму № 3 — тёплое бельё), десятки раз строились и проверялись. Потом шли в строю от Балтийского вокзала по улице Майорова на Исаакиевскую площадь, где был небольшой «привал» — «можно курить, можно «сходить» («присесть» нельзя и негде), а затем — марш на Дворцовую. Парад начинался в 10.00, таким образом, мы были на ногах пять часов до парада, два часа на параде и два часа при возвращении. Итого девять часов, из них не меньше половины -- с винтовкой весом пять килограмм на согнутой руке, чуть привалив ее к плечу. Было очень утомительно, но мы полны гордости, важности, ибо были в центре внимания. Готовил нас к парадам заместитель начальника училища по строевой части полковник Соколов — наш советский полковник: высокий, красивый, в большой модной фуражке, «гроза» женщин. Выглядел он не хуже царских военных аристократов. Рядом собака, тоже большая, благородная и тоже красивая. Не парочка, а загляденье: невольно подтягиваешься, распрямляешь плечи, подсознательно хочешь подражать им, быть похожим на них. Такой же красиво-строевой полковник — комендант столицы готовил нас в Москве. (Соколов впоследствии стал комендантом Ленинграда). В Москву мы поехали в начале апреля, хорошо индивидуально экипированные. Потом мы эти строго уставные бушлаты, «бески» и «клеша» с удовольствием носили и на четвёртом курсе. Жили в полуэкипаже за Химками в Чёрном или Белом Лебеде. Занимались ежедневно до 14 часов строевыми на площади у морвокзала Химки. Репетиции — на аэродроме, генеральная — на Красной площади. На занятия нас возили на красивых голубых «фордах — студебеккерах» с якорями на борту — фирменный знак ВМФ. Кормили очень плотно. После строевых и обеда — обязательный сон, вечером — увольнение: экскурсии, театры (билеты бесплатно). Один раз мы с Мишей Лезгинцевым посетили Большой театр, правда, купив билеты на ... самую, самую галёрку, но ... всё-таки побывали, знаем, что такое Большой театр Советского Союза. Я срочно заделался москвичом (отец действительно жил в Москве) и мог увольняться на ночь с субботы на воскресение. Моё место в строю в соответствии с ростом было второе с правого края в предпоследней шеренге, а на парад я пошёл первым справа, так как кто-то заболел. Разница принципиальная: вторым ты держишь голову направо и видишь всю трибуну, а первым — голова прямо и зришь только надоевший затылок впереди идущего. Я же ухитрился идти точно в затылок, держать голову прямо, но глаза скосил вправо дальше, чем сектор бортового отличительного огня, и видел Сталина, даже его рябинки, даже его красно-синие жилки на щеках. Но я их не замечал, я был в восторге, в эйфории: «Я вижу Вождя! Я вижу СТАЛИНА!!!». Идти по брусчатке, да ещё в ботинках с подковками, было очень трудно, опасно. То, что я не «выехал», не «зарубил» вправо, — чудо, везение. Когда возвращались с парада до своих голубых «автобусов» по улицам, заполненным праздничной толпой, слышали анекдотичные реплики: сынок спрашивает: «Мама, а почему они (то есть мы) все такие красные?» (мы были поджарены весенним солнцем), на что, мама, не задумываясь, отвечает: «Пьяные, наверное,...». Ассоциация у неё такая: моряк — значит пьяный. После парада нас отпустили на ночь 1 и 2 мая и «отдали столицу на растерзание победителям». Каким-то образом мы (не помню, с кем из курсантов) оказались в Малаховке, где и веселились. А я даже влюбился, результатом чего была вполне законная двойка по ОМЛ (основам марксизма-ленинизма), так как я, готовясь к экзамену, смотрел в книгу, а видел ... её улыбку, взгляд . Никак не мог перестроиться с Малаховки на революционный Петроград. Теперь я очень горжусь, что ещё в те тяжёлые сталинские годы этой двойкой «смело» выразил свой протест, своё несогласие с политикой партии и ныне причисляю себя к «жертвам культа личности»! На четвёртом курсе 1 мая мы стояли на Дворцовой площади в оцеплении между рядами демонстрантов. Это было интересно, вольно, с приподнятым настроением, «задеванием» проходящих девушек, короче, — совсем не то, что на параде с ружьём.
Система воспитания, внутренний уклад жизни
Наши начальники училища Авраамов и Никитин пытались воспитать нас по типу кадетов морского корпуса, приобщить к культуре. Ещё на первых курсах подготовительного училища были введены уроки танцев. Мы, в робах и «гадах» на два номера больше, поначалу неловко топтались в парах, а через некоторое время лихо «отплясывали» не только «буржуйский» фокстрот, но и мазурку, и падеспань, польку, краковяк, падекатр, вальс, вальс-мазурку, русский бальный танец и другие, что конечно же пригодилось нам в будущем. Воспитывали в нас не только любовь к танцам, но и способность держать себя в обществе, за столом, развивали общую культуру. Неоднократно нас строем водили в театр, в том числе и в Мариинку, в музеи, даже в золотые кладовые. А училищный оркестр, благодаря его дирижеру Алявдину (почти Алябьев), часто игравший во время обедов, знакомил нас не только с «Сильвой» и «Фиалкой Монмартра», так что не только иногородние провинциалы «окультуривались», но и ленинградцы, и москвичи. В то время — годы борьбы с космополитизмом — всякие западные неклассические танцы были почти изъяты. Даже в знаменитом Мраморном зале играли фокстрот или танго через шесть-семь бальных и русских танцев. И тогда, как протест, появилась подпольная «линда» — что-то с элементами чарльстона. Её танцевали по углам, в закутках залов, хотя танец в исполнении профессионалов — очень красивый и живой. Наш учитель-руководитель, который ставил танцы в художественной самодеятельности, показал со своей партнершей эту самую линду — мы выли от восторга, мы охали в восхищеньи и пытались подражать. И всё же однажды во Дворце пионеров, куда мы были приглашены на бал (ещё с красными курсовками), получили «щелчок по носу»: самозабвенно «линдуем» между колоннами, вдруг открывается высокая дверь и в зал парами в торжественном падекатре входят костюмированные красивые девочки и мальчики — отточенные, изящные, соответствующие духу старинного Аничкова дворца. Мы, «линдачи-клёшники», сразу скисли, они нас раздавили классикой. Был ли я разгильдяем в училище? Пожалуй, нет, может быть даже числился в благополучных. Хотя разок сидел на гарнизонной гауптвахте. Было это в зимний отпуск на третьем курсе высшего училища. Славка Кулешов, Эрка Ильин, я и наш товарищ (мой друг ещё с блокадных времён) из ансамбля Балтийского флота Павел Никольский возвращались откуда-то ночью в состоянии некоторого подпития. Навстречу шла большая по численности весёлая компания гражданских парней примерно в том же состоянии. «Бараны» столкнулись: ругань, визг, взмахи, свист, гам — молниеносный кадр... Крик: — «Полундра!». Все разбежались, а я... то ли не смог, то ли уже некуда было бежать. Взяли, повязали, отвезли в комендатуру и выдали законные, заработанные десять суток аж от самого коменданта города, причём, получилось так, что не менее пяти суток за счёт каникул. Познакомиться с гауптвахтой было познавательно, интересно. Предписанный уставом и противоположный ему сложившийся в камерах порядок, дракон старшина—«боров», самодельные игральные карты, «бычки» и крошки табака в самых укромных местах одежды, работы «на воле» и так далее — всё было необычно. Однажды убирали снег около Пушкинского театра, заодно посмотрели и генеральную репетицию какого-то спектакля с известными артистами Толубеевым и Черкасовым. В другой раз прямо с работы у Дома офицеров по какой-то уборке-разгрузке полковник — дядюшка моего соседа-сокамерника повёл нас отобедать в ресторане. Так что, впечатления богатые. Но самое интересное было потом: когда я прибыл в училище, Иван Сергеевич, принявший мой доклад, спросил, с кем вместе я участвовал в драке. Естественно, я промямлил, что какие-то случайные незнакомые курсанты, конечно же, из другого училища. Тогда отец-командир «выдал» мне, нарисовал полную картину «встречи на Эльбе» (на Мойке): с кем я был и многое другое из более ранних моих похождений. Не сразу, но я понял, что эти знания превышают проницательность воспитателя, досконально знающего своего воспитанника, что существует хорошо налаженная «пятая колонна», и всё, что мы вытворяем, известно начальству. Вот так вот... Ну, а в остальном я был паинькой, получал дежурные благодарности за самодеятельность, стенгазету, спорт и даже успеваемость. Подготовительное училище (10 классов) я заканчивал в расчёте на серебряную медаль, но, к сожалению, ГорОНО не утвердил пятёрку за сочинение, поставленную в училище. Имея право выбора, я пожелал идти на гидрографический факультет училища имени Фрунзе, но мудрый Никитин Б.В. (уже адмирал) в беседе нарисовал мрачную перспективу, обозвал гидрографов «маслёнщиками» и отговорил меня. И правильно сделал: я не покинул своих друзей и стал подводником (в дальнейшем, кстати, побывав и гидрографом). За годы учёбы в подготовительном училище много курсантов отсеялось по различным причинам: неуспеваемость, здоровье, неприспособленность к службе, несовместимость с коллективом. А по окончании ЛВМПУ некоторые перешли в другие училища: на гидрофак во Фрунзе — В.Серебряков и ещё кто-то; в ВИТУ — хромой Раллев, доставшийся нам после «полёта» с лестничной площадки четвёртого этажа, где встретились в 1945 году две упрямые роты; в интендантское — Илья Эренбург, Гриша Балашов и, по-моему, Кадыр Гильмутдинов; в медицинскую Академию — Гуляко. В результате — добирали два класса с «гражданки». А к финишу — выпуску из высшего училища — не дошли примерно около ста человек. Готовились к экзаменам, в том числе и государственным, заменявшим диплом, группами по три-четыре человека. Занимались и на чердачных лестничных площадках, и в закутках, и в пустых аудиториях, но обязательно так, чтобы никто другой, никакие другие «мафиози» не мешали. В нашу «компашку» входили Эрик Ильин, Славка Кулешов (до перевода в минёры), Толя Кюбар, Саша Гаврильченко и я. Возможно, ещё кто-то. У меня и, кажется, у Толи Кюбара по негуманитарным предметам были хорошие, чёткие, красочные конспекты. Мы разбирали каждый вопрос билета (предполагаемый или известный), «гоняли» друг друга, разъясняли и, если всё ясно, переходили к другому. Так как уровень знаний и усвояемости у нас, кроме Славки Кулешова, был примерно одинаков, то особо мы не напрягались, по ночам не «долбали». У некоторых курсантов такая привычка или необходимость была: заказывали дневальному поднять их в четыре-пять утра и садились зубрить. Аркаша Копейкин, когда его будили в 5.00, открывал один глаз и вещал: «Хорошо-то как — ещё целый час спать!» И засыпал снова. В ночь перед сдачей государственного экзамена по электро-навигационным приборам у меня во сне «пролистался» весь конспект. Утром я взял билет в пристрелочной первой четвёрке, и у меня всплыл перед глазами нужный лист конспекта. Спокойно «срисовал» с памяти чертёж, написал текст и был готов. Преподаватель посмотрел на доску, задал два-три уточняющих, проверяющих или дополнительных вопроса и, поставив жирную пятёрку, отпустил меня. Этот эпизод подтверждает, что хороший конспект, составляемый в течение всего учебного года, — почти полный успех на экзаменах, да и в жизни, в дальнейшей службе на флоте, о чём я расскажу ниже. Конечно, не по всем предметам у меня были такие конспекты и, следовательно, знания, но по штурманским дисциплинам всегда было только «пять баллов». С самого первого курса я любил навигационные прокладки: тренировочные, контрольные, состязательные. Всегда получал за них отличные оценки и призы за первое-третье места, что и способствовало беспрепятственному распределению меня на штурманский факультет.
Обучение «хорошей морской практике»
Как нестандартные, особые виды учебы и морского становления я хотел бы выделить: морскую шлюпочно-парусную практику в подготовительном училище, практику на кораблях и ЛВД (лёгководолазную подготовку) в высшем училище. Шлюпкой, то есть греблей, постановкой парусов, поворотами «через фордевинд» и «оверштаг», мы занимались с самых первых подготских дней, конечно же, сначала изучив всё теоретически. Затем каждому поочередно доверяли управлять шлюпкой как на вёслах, так и под парусами, последнее особенно сложно. У нас была база на Фонтанке (описана В.В.Конецким), а затем в районе стадиона Ленина, откуда мы, взяв сухой паек на день, выходили через морской канал порта в Финский залив. Хоть это место и называлось пренебрежительно «Маркизовой лужей», но мозолей, истинно морской закалки оно подарило нам много. Это была наша закваска. Особую благодарность в нашем становлении моряков-парусников следует выразить преподавателю кафедры военно-морской подготовки капитану с красными погонами Похвалле Ю.Р. Он был очень учтив с нами, очень благороден и очень любил своё парусное дело, что с успехом воспитывал и в нас без всякого боцманского сленга. Шлюпками мы занимались в течение всего учебного года, а в одну из начальных практик совершили поход по Неве в Ладожское озеро (для нас в то время — море) и обратно. По этому же маршруту через 25 лет после выпуска мы прокатились на теплоходе «Н.Крупская», но лично я последнее помню смутно ввиду обильных встреч с друзьями. Из практик-походов на шхуне «Учёба» мне запомнились три момента. Первый: ежедневное вместо физзарядки лазание по вантам вверх, переход на тридцатиметровой высоте вокруг мачты и спуск. Сначала было очень страшно, но не залезть нельзя — стыдно, затем попривыкли и бегали по вантам и реям при постановке-уборке парусов, как обезьяны. Второй: в одну из таких постановок при сильном ветре и качке в пять-шесть баллов одного курсанта (кажется, это был Женя Юдин) «рвануло» и он, «мёртво» вцепившись в угол паруса, болтался над рычащей бездной, пока кому-то удалось подтянуть его к рее. Говорят, что его пальцы не могли разжать. И, наконец, третий: стоянка у причальной городской стенки Выборга напротив знаменитой крепости. Мы — «мореманы» высыпали на палубу нашего небольшого парусника и, презрительно поглядывая на береговых штатских, гордо пели «в Кейптаунском порту» и другие залихватско-пиратские песни. Запевал Виля Холмовой, я подыгрывал на маленьком аккордеоне. Мы были на высоте, мы видели шторм, мы уже стали моряками. Практика на Черноморском флоте после 1-го курса высшего училища проходила на крейсере «Красный Крым». Старпомом на крейсере был капитан 3 ранга, при появлении которого подавалась команда наподобие «Покрышкин в воздухе» и все разбегались, прятались. Позднее он был старшим помощником командира линкора «Новороссийск» и боролся за его живучесть в трагический октябрь 1955 года. В основном практиковались мы в приборках, стирках роб, нарядах на камбуз и в гальюн, артиллерийских стрельбах, которые я после блокады не переваривал, штурманской прокладке при плавании вдоль всего побережья Черного моря до Батуми. Если отбросить тяготы, скученность (на практике были курсанты и других училищ), постоянную «заботу» начальства, то эту практику можно назвать интересной, познавательной и начально-морской, так сказать, общей. После второго и третьего курсов мы проходили практику на Северном флоте «конвейерным» способом: на торпедных катерах в губе Западная Долгая, на американских малых охотниках в Полярном, на тральщиках «амиках», тоже американских, занимаясь боевым тралением, на эсминцах проекта 30-бис в Североморске. На каждом корабле мы были небольшими группами по три-пять человек, занимались конкретным делом, становились настоящими помощниками командиров БЧ-1. На «Грозе» я не был, так как преферансом не увлекался, хотя некоторые (по-моему, Игорь Лезгинцев) ухитрились просидеть буквально на нарах за картами, не выходя на верхнюю палубу, целый месяц. Мне очень понравились торпедные катера типа «Воспер», «Элко», «Хиггинс», да и наши «Комсомольцы». Особенно симпатичны были их молодые командиры — старлеи и даже лейтенанты. В настоящих американских канадках, обветренные, солёные, с зелёными «крабами» на фуражках (пилотки тогда носили только подводники), они вразвалочку сходили на причал, группировались, вернее, кучковались, небрежно закуривали и громко, с дружескими подначками и юмором обсуждали выполненные стрельбы и сам выход в море. Мы им очень завидовали, и я искренне хотел стать катерником, тем более, что И.С. Щёголев тоже был катерником. Мне очень нравилось летать по гребням волн, как на мотоцикле по плохой грунтовой дороге (так точно выразился один из катерников), но в дрейфе я бессовестно укачивался, хотя на других кораблях качку переносил стойко. Кроме того, по каким-то причинам в губе Западная Долгая (именно там и более нигде) у меня ежедневно с 17.30 до 19.30 очень болезненно обострялся затаённо имеемый у каждого ленинградца гайморит. Местный врач сказал, что единственное лечение — уехать отсюда, что оказалось верным. Свою несбывшуюся мечту, любовь к торпедным катерам, полёт по волнам, я впоследствии, приезжая в Ленинград на машине, обязательно имитировал, воспроизводил прыжком на большой скорости через горбатые мостики набережной у Летнего сада. Ощущение особое, острое, неповторимое и, главное, точное. При прохождении практики на малых охотниках за подводными лодками я попал на катер, который использовался как разъездной, постоянно курсирующий Полярное — Североморск — Мурманск, то есть осваивал Кольский залив. Курсантская практика в основном заключалась в выполнении заказов младших, а иногда и старших офицеров соседних кораблей, — закупка спиртного в Мурманске и «контрабандная» его доставка в Полярное — зону «сухого» закона. Запомнилось также, как меня «купил» штатный кок-матрос, к которому я был приставлен на данный день. Он с вечера попросил меня «постараться для ребят» — встать завтра пораньше, сходить в сопки (в Полярном они «подстрижены» под Котовского»), набрать хворосту с тем, чтобы он (кок) смог приготовить команде праздничный обед (дело было перед днем ВМФ). Стараясь «прогнуться» и доказать, что и курсанты — бывалые моряки и от «народа» себя не отделяют, я всё это добросовестно выполнил и, довольный и гордый, вывалил охапку сухих сучков и где-то позаимствованных дощечек перед плитой на камбузе. Кок невозмутимо сказал «большое спасибо» и ... включил рубильник!.. И это случилось, когда у меня за плечами были три года подготии и почти два курса высшего! На тральщиках — «амиках» бытовые условия были получше, почеловечнее, но служба, задачи — очень трудными. Мы шли и выполняли боевое траление в районе к востоку от устья Белого моря. Траление было фактическое, курс менять и, соответственно, уменьшать качку нельзя, поэтому бросало и трепало здорово. Так сутки за сутками. Однажды в этой лихой обстановке я проходил по офицерскому коридору и через открытую дверь увидел нашего руководителя практики (кажется, капитана 1 ранга Новицкого) сидящим в каюте, в кресле за столом и спокойно с книжкой в руках пьющего мелкими глотками то ли коньяк, то ли чай (но пахло!). Народ на тральщиках был очень дружный: матросы, которые прослужили уже более пяти лет, молодые, но не заносчивые офицеры. Мы действительно высаживались на остров Колгуев, и одна шлюпка у нас перевернулась, как об этом пишет Володя Брыскин. Два дня назад Боря Пукин дал мне прочитать его книгу «Тихоокеанский флот». В ней Володя всё описал гораздо подробнее и интересней о нашей «чудильниковской» жизни, поэтому буду стараться быстрее «выпуститься» из училища. На острове наши офицеры закупали бостон, из которого шили себе сверхвыходные военные костюмы в ногу с модой. Тогда любили морскую форму, не «скрывали» и умели красиво её носить. Кажется, там, на этом острове, было здание, которое построили ненцам с расчетом, что на втором этаже будут магазин и жилые комнаты, а на первом — клуб. Местные аборигены решили по-другому: жили вокруг здания в чумах, а в клуб загнали ... оленей. Но магазин, хоть и без «огненной воды», всё-таки работал. На эсминце проекта 30-бис (название точно не помню: то ли «Бодрый», то ли «Дикий», то ли «Смелый»), кроме обычных для практики эпизодов, штрихов, интересным было наличие медвежонка и, конечно же, он был любимцем командира. Но не нас, ибо медведь (а он был уже почти юношей) очень любил забираться в курсантские койки, а при строгих окриках обязательно выдавал «на гора» там, где его заставали. Кроме медвежонка, на корабле была старая мудрая собака-мама с двумя щенками. Когда командир шёл домой (эсминец стоял в Североморске), то за ним весело плелись и медвежонок, и щенки, а «мама» следила за порядком, подгоняла деток, не давала им «заплестись» в сторону, направляла на нужный курс... Практика на эсминце отличалась от предыдущих тем, что мы познакомились и по мере возможности освоили новые для того времени навигационные приборы (гирокомпас с курсографом, эхолот, радиолокационную станцию). В целом, мы за эти две практики 1951-1952 годов подковались и уже могли иметь собственное суждение о плюсах — минусах будущей службы на том или ином типе надводного корабля, но на четвёртом курсе судьба резко развернула нас и направила под воду.
Нас готовят в подводники
Когда мы узнали, что будем подводниками, не у всех, в том числе и у меня, это вызвало положительные эмоции. Ходили слухи, что подводники умываются один раз в месяц, острят и вообще говорят одно слово в неделю и результативно обнимают жену один раз за ночь — полярную. В училище «подводная лодка» для нас было чисто теоретическим понятием. То, что мы изучали на лекциях, видели на схемах — всё было абстрактно, безжизненно, так как воочию мы видели лодку один раз, да и то это была допотопно-революционная лодка, стоявшая у набережной лейтенанта Шмидта и выполнявшая роль музейного экспоната. Несмотря на расплывчатость и пока непривлекательность идеи и перспективы службы на подводных лодках, мы всё же заинтересовались, сначала лениво, потом, всё более интенсивно. После повторной сверхстрогой медицинской комиссии человек 10 — 15 наших курсантов отсеялось. Женя Булыкин — спортсмен — борец, а обнаружили туберкулёз. К нам перешли желающие стать подводниками курсанты из училища имени Фрунзе: мой будущий друг Виталька Ленинцев, коллега-командир Вадим Коновалов, который уже будучи адмиралом погиб вместе с Джемсом Чулковым при катастрофе самолёта, вылетевшего на ТОФ из Ленинграда в 1981 году, и другие. Итак, наконец, ЛВД или легководолазная подготовка. Проходили мы ее в КУОППе (Краснознаменный учебный отряд подводного плавания) на Косой линии или Гаванской улице Васильевского острова (?), аж за Мраморным (Кировским ДК). Программа по полному курсу, начиная от первого погружения и выполнения мелких работ под водой в бассейне и кончая выходом из «лодки» через 26-метровую башню. Первые «нырки» и хождения под водой в снаряжении были забавны, интересны новизной ощущений и совершенно не страшны. Но не для всех. На Валю Утенкова не действовали никакие разъяснения, уговоры, разносы. Как только вода доходила до загубника или очков шлема, он совершенно терял самообладание, контроль и сознание и выскакивал из воды, как пробка. По-моему, его в конце концов отстранили от прохождения ЛВД и выпустили в надводники. Всё же самым неприятным, щекочущим нервы (даже и впоследствии на флоте) был выход из торпедного аппарата. Толстый мичман-инструктор, расхаживая перед строем трепещущих курсантов, монотонно рассказывал о «случаях», которые происходили при выполнении этого упражнения: то впередилежащий «лягнулся» от страха и выбил загубник у лежащего сзади, то не успели спустить воду из торпедного аппарата по поднятой изнутри тревоге, то ещё что-то, а результат — трупы. Нам и так тошно, и так боремся с собой, как перед встречей с бормашиной, а он подливает и подливает. Я всегда «собирался», проводил аутотренинг — «мне хорошо в торпедном аппарате», «мне не страшно» и тому подобное, загонял предательскую дрожь внутрь, чётко выполнял все предписания «живодёра» — инструктора и ... выходил из торпедного аппарата нормально. Так как эти тренировки, эти упражнения проводились поэтапно от простого к сложному (сухой ТА, мокрый ТА в ванне и так далее), то постепенно чувство боязни уменьшалось, притуплялось, но полностью чувство самосохранения, самозащиты не исчезало, просто мы становились более «подкованными», уверенными. Как говорят парашютисты, страшна только первая тысяча прыжков. Выход через тубус и дальнейший подъём в башне по тросу с мусингами, соблюдая выдержки времени, особого труда не составляли, так как впереди, вернее, наверху постепенно появлялся «свет в туннеле», а на каждой площадке через пять метров стоял страхующий. Свободного всплытия мы тогда ещё не осваивали. На флоте я от ежегодных упражнений и задач ЛВД не отлынивал, даже когда стал командиром. А в молодости на флотских учениях в должности старшего помощника или помощника командира выходил из лодки в колоколе с глубины 90 метров (по плану учения 120 метров). В этом случае я, будучи в положении старшего и инструктора, перед подчиненными делал вид, что глубина даже в 90 метров — моя стихия и вся эта серьёзная и опасная процедура для меня привычное дело, «семечки». Однако, вид воды, вид глубины изнутри колокола навевал различные и не очень восторженные мысли, а времени для размышлений было достаточно — колокол шёл вверх со всеми положенными выдержками.
Распределение определило судьбы
Итак, госэкзамены пролетели благополучно: все получили положительные оценки, ибо других и не должно было быть — все кандидаты в двоечники уже «спрыгнули с поезда» (я не намекаю на Бориса Козлова). По училищу пополз слух: в связи с острой нехваткой «специалистов» на флотах часть нашего выпуска направляется на лодки без стажировки. Выпуск нашего курса в 1953 году был трёхэтапным: первый — в августе — досрочники, примерно 70-80 человек, второй — основной, нормальный — в ноябре после стажировки и третий — в декабре — это примерно 20-25 человек «подозрительных». Их назначили в конце декабря только на надводные корабли. В промежутках этих этапов два друга, Донзаресков и Пиотровский, зная что их лишили лейтенантского звания, сдали необходимые дополнительные экзамены в мореходке и пошли в рыбный флот. Слышал, что «Дон» со временем стал крупным рыбным начальником в Мурманске.
Этапы «большого круга»
Мои годы службы на флоте можно разделить на два основных периода: подводный — 1953-1966 годы и штабной — 1967-1980 годы (каждый по 13 лет), причём, первый был интереснее и разнообразнее не только из-за возраста и по событиям, но и потому, что я шёл вверх. Подводный период, в свою очередь, делится на этапы: начальный 1953-56 годы, антарктический 1956-57 годы, старпомовский 1957-59 годы, опять загранкомандировачный 1959-61 годы, ВОЛСОКский 1961-62 годы, командирский 1962-66 годы. Между первым и вторым периодами лежит глубокая аварийная впадина 1966-67 годы. Более подробно об этом изложу ниже. Я был выпущен из училища досрочно, без стажировки. Проходив всего неделю в мичманах-гардемаринах и получив лейтенантские атрибуты и «приданое», мы собрались на мальчишник. Конечно, выпили, поплакали в тужурки своих учителей и наставников и... двинули на флоты. Я был налегке, так как «приданое» частично отдал матери, а часть продал и купил сиреневые фильдеперсовые кальсоны — вероятно, это была моя первая «голубая мечта». На Черноморский флот поехало, по-моему, 15-20 наших выпускников. Кто конкретно — выпало из памяти, но, кажется, Толя Кюбар, Валера Поздняков, Вова Комлев, Володя Гарин и другие. Несмотря на ажиотаж и спешку, нас промурыжили неделю в отделе кадров Черноморского флота. Ежедневно мы ходили отмечаться и узнавать, когда нас примет и побеседует Командующий флотом. В первые же два-три вечера, как и положено настоящим «морским волкам», прибывшим в Кейптауно-Севастопольскнй порт, мы «просадили» в ресторане «Приморский» все деньги, которые еще оставались от Ленинграда. И теперь каждое утро мы, переодевшись в «бобочки», шныряли по рядам базара в Арт-бухте, где теперь сквер перед паромным причалом, и пробовали всё: сметану, капусту, овощи, фрукты. Благо конец августа 53-го был урожайным. Когда, наконец, нас в очередной раз «не принял» Командующий ЧФ, а просто подписал или утвердил наше распределение по лодкам, я, имея в кармане только мелочь и на руках большущий чемодан, сел на теплоход. Славка Кулешов, находившийся на стажировке в неоплачиваемом звании мичмана, сверкая своими красивыми масляными глазами, раздобыл у знакомых (женщин, естественно) для меня 25 рублей. До Поти надо было плыть («плыть», т.к. я — пассажир) трое суток. Билет, конечно, удалось приобрести только палубный. И вот я трое суток мучился не только оттого, что нет постоянного места для принятия так любимого в курсантские годы горизонтального положения, но и от сомнений, раздирающих мой скудный бюджет, что покупать на обед-завтрак-ужин (вместе!): булочку с чем-то, просто батон, бутерброд с завядшим сыром, бутылку кефира или... пива. Что победило, я не помню, но подвернулся какой-то возвращавшийся из отпуска в «Батум» старлей-пограничник «кавказской» национальности, очень высокий, красивый, шумливый и компанейский. Несмотря на то, что он возвращался, а не ехал в отпуск, нам хватило не только на пиво. Поздно вечером теплоход ошвартовался в порту Поти. Я ухитрился «сэкономить» 10 рублей на такси, чтобы с шиком появиться на службе. И чуть было не поехал, но оказалось, что плавбаза «Нева» стоит с другой стороны этого же причала, надо только тихо и осторожно пройти мимо недавно открывшегося ресторана «Новая Колхида». На плавбазе меня временно разместили, и я спокойненько отдохнул безо всяких философских мыслей «вот оно — начало», «вот это флот» и тому подобное. Начало офицерской службы
Утром представился командиру 154 бригады подводных лодок, только что получившему звание контр-адмирала, но не успевшему ещё официально одеть эполеты, Парамошкину. Выслушав отцовские наставления (кстати, комбриг оказался стоящим мужиком), я в соответствии с назначением прибыл на ПЛ М-62 Х11-ой серии — знаменитую, гвардейскую, но... сдающуюся в ОФИ, и, естественно, не плавающую. Меня с очень большим нетерпением, с отпускными и билетом в кармане ждал механик этой ПЛ. Быстро всё свалив на меня (других офицеров на ПЛ не было) и очень бегло пояснив мне что-то по БЧ-1 и по БЧ-5, и ещё что-то по каким-то специальностям, он бросил меня, растворившись в своих отъездных хлопотах. Больше я его никогда не видел. Оставшись в одиночестве, я стал думать, с чего же начинать, но в это время в каюту ввалился старший матрос этой лодки и весьма дружески заявил мне: — Не бздон, лейтенант, мы тебя не подведём! Подтекстом было: — «А ты нам не мешай». «Мы», «нам» — это 19 человек экипажа ПЛ М-62, полностью предоставленного самим себе и, естественно, по военным понятиям — разложившегося. Мне хватило мудрости не вступить с ними в спор, в уставные или совсем неуставные отношения. И очень хорошо: они обслуживали механизмы, что-то делали и спокойно ходили в самоволки. Я даже ухитрился получить 6 литров спирта на уже выгруженную аккумуляторную батарею и честно поделиться с ними (конечно, официально передал старшине команды электриков для протирки ... чего?). Ежедневно я ходил в город по длинной горячей от солнца улице Ленина на площадь Сталина мимо бюста Берии, который, в отличии от его человеческого прообраза, ещё долго не был снят и уничтожен. Ходил я в отделения тыла: гидрографическое, техническое и другие — что-то списывал, какие-то акты переделывал, какие-то бумажки отдавал-передавал. Никто из командования меня не дёргал, а личный состав продолжал «не подводить». Ходить приходилось пешком, так как грузинские автобусы ездили «по хотению» водителей. Они могли остановиться и полчаса — час разговаривать с другом, а пассажиры терпеливо ждали. Поэтому на обратном пути выпивались одна-две кружки пива. Через неделю-две такой житухи кто-то вспомнил обо мне, и меня прикомандировали на «Сталинец», которым командовал капитан 3 ранга Беккаревич. Впоследствии, «походив» по флотам, он вернулся заместителем комбрига в 155-ю БПЛ Черноморского флота. Они готовили задачу № 1, и я активно включился в оформление всех положенных бумажек по штурманской части. В то время надо было «вручную» рисовать на общей карте фарватеры, рекомендованные курсы-пути-маршруты, минные районы, опасные и бывшие опасные, районы боевой подготовки, «поднимать» маяки, «отбивать» глубины и тому пподобное. В общем, получалась не карта, а персидский ковёр. Делал я это терпеливо и даже с любовью. И был в этом толк: заодно изучал театр будущего плавания. В море вышел на «Сталинце» раза два, но лодку изучить не успел. Опять меня начали дёргать кадровики: давай иди штурманом на плавбазу. Но я, уже поняв, что в подводниках быть выгоднее, а отпуск за 1953 год я ещё не использовал, отказался. Пробыв в Поти два месяца, я получил назначение в Севастополь на ПЛ 613 проекта и, конечно же, не командиром рулевой группы, а командиром БЧ-1, так как уже имел «богатый опыт». Во время пребывания в Поти я честно поил перед танцами после первой и второй офицерских получек наших однокашников, находившихся на стажировке. Хорошо, что их было немного. Тесных знакомств с аборигенами завести не успел, ибо грузины-менгрелы, живущие в Поти, — коварный народ. Наш выпускник 1952 года влюбился в русскую дочь (студентку на каникулах) нашего русского капитана какого-то ранга и собирался жениться на ней. Но её же «приметил» и сын то ли грузина-хозяина, то ли грузина-соседа. За день до свадьбы этот грузин-сыночек пырнул невесту ножом. Свадьба всё равно состоялась, но через месяц после выхода подрезанной из госпиталя. В ноябре я прибыл в Севастополь, и вот здесь у меня началась настоящая служба. ПЛ С-71 — плавающая, сдававшая задачи боевой подготовки. Мне был поставлен срок сдачи зачётов на самостоятельное управление боевой частью, на вахтенного офицера. Со своими однокашниками в это время я виделся редко: все были заняты изучением лодки и многократными сдачами многочисленных зачётов. За несдачу после двух месяцев срока лишали «подводных». Выходы в море, вечерние «обеспечения» — присутствие в команде, дежурства, патрули поглощали всё время. Заниматься приходилось урывками. Но всё это вместе и было становлением, собственно зачётами и службой. Штурманов лодок, ставили также и помощниками оперативных дежурных бригады (в помещении под постом НиС Южной бухты). Это очень помогало нам и в изучении театра, и в освоении связи. Мы же были в то время командирами БЧ-1-4 и, по совместительству, начальниками РТС. Поток строящихся ПЛ 613 проекта возрастал, круговорот назначений шёл стремительно. Кто-то из наших однокашников менее, чем за год, дошел до должности старшего помощника командира ПЛ: побыл командиром группы — вперёд на новостроящуюся командиром БЧ-1-4, пришёл в Севастополь — снова назначение в Николаев помощником и, наконец, его вытолкнули на Север уже старпомом. Там, конечно, разобрались, что старпом в море не только ни разу не погружался, но и самостоятельно не вёл лодку даже в надводном положении. Однако, я избежал этой бешеной карьеры, этой стремительности. Почти два года я штурманил на одной и той же ПЛ. Мой командир не хотел расставаться со мной, да и я сам не очень-то хотел покидать эту лодку, этот сплочённый коллектив. Отношения в офицерско-мичманском составе ПЛ С-71 сложились очень добрые, дружеские, но не переходящие грань служебных ступенек. Я и мой одногодок командир БЧ-2-3 (выпускник Севастопольского ВВМУ) Витя Шевченко были молодыми и поэтому ежедневно или почти ежедневно «обеспечивали», то есть оставались в команде со своим «любимым и родным» личным составом. Когда праздновалось какое-либо торжество (день рождения, присвоение звания, повышение по службе, сдача зачётов и тому подобное), все собирались за одним столом, как единая семья. Неважно, где это было: в береговых каютах, в «чепке» или «на дому» (чаще «на дому»). Мы, молодые лейтенанты, знали всех жён и детей наших офицеров и могли запросто забежать к кому-нибудь домой и сказать: «Марь Ивановна, накормите меня, пожалуйста!». И получали обед. Это не считалось неприличным, нахальным, зазорным. Но когда нужно было помочь в переезде, расстановке мебели и тому подобное (в том числе и одолжить денег женатикам) — непременно помогали дружно. Такие же отношения были и в среде наших однокашников, прибывших на Черноморский флот. У Ритули Калашниковой (жены Коли) на улице Лазаревской можно было не только покушать, но и «закусить», а у Ларисы Булыкиной, хоть Женя служил не на ПЛ, а в учебном отряде, можно было получить обед, если она его успела приготовить. Всё было чисто по-товарищески, и никогда не возникало никаких подозрений, если ты зашёл в гости в отсутствие мужа. Мы были глубоко порядочными офицерами, воспитанными петербуржцами, истинными подготами — джентльменами. Командир ПЛ С-71 капитан 2 ранга Шилюк Петр Иосифович, в прошлом — тяжелоатлет, был несколько грузноват, но весьма подвижен. Он окончил военный факультет института физкультуры имени Лесгафта и во время войны прибыл на ТОФ, где не только «физкультурничал» в бригаде подводных лодок, но и «баловался» штурманскими инструментами. На какой-то из лодок смыло штурмана и Шилюк, сдав зачёты, занял его место. После войны служил в Одессе командиром на «Малютке», а затем на ПЛ 613 проекта с постройки. Несколько шумливый, «разносил» справедливо и очень громко, но никогда не выносил «наверх» и не задерживал звания. Несмотря на отсутствие специального высшего образования (военно-морского), в торпедные атаки выходил мастерски, по какому-то наитию. Нарисовать, обосновать его атаку было трудновато, но результат удивительный — почти всегда медиана залпа «попадала» в цель и, значит, оценка «пять». Нет, торпеды мы тоже теряли, этого, по-моему, никто не избежал. Жена его — тоже спортсменка, симпатичная, моложавая, со сбитой фигурой. Кое-кто из лейтенантской молодежи даже пытался «пришвартоваться», но... Лет 10-15 назад я встретил Петра Иосифовича на СТО в Дергачах, куда приехал на технический осмотр автомобиля. Он работал там «вратарём», то есть проверял пропуска, открывая-закрывая ворота, но зато «был при деле», как он сам над собой мрачно шутил. Старпомом лодки был капитан 3 ранга Богачёв Виктор Иванович, подпольная кличка «Цыган». Он действительно был похож на цыгана: смугл, красив, строен, и в свои «немного за 30» легко делал стойку на стуле. С женой жил конфликтно и очень метко характеризовал её: «У моей жены лишь одно положительное качество — не знает процентов!», что позволяло ему оставлять вполне приличную заначку. Потом Виктор Иванович получил лодку и ушел на другой флот. Его сменил капитан-лейтенант Олег Холодов, очень представительный, способный не морщась выпить стакан чистого спирта мелкими глотками или на спор 30 кружек пива. Затем, покомандовав лодкой тоже на другом флоте, он убыл на родину — в Москву, в военно-морской архив. Последний раз мы встречались с ним на ВОЛСОКе в 1961-62 годах. Я был старшиной класса (группы), он — старшим командирского факультета. Ежедневно утром я докладывал ему о присутствии 16 великовозрастных слушателей, а он ежедневно, дыхнув на меня, задавал вопрос: «Никита, как выхлоп?», и всё равно шёл на доклад к адмиралу. Большое педагогическое терпение, направляющую помощь в изучении лодки и мудрость, способствовавшие моему становлению, проявил командир БЧ-5 капитан-лейтенант, затем капитан 3 ранга Хоробрых Юрий Максимович. Очень грамотный, очень внимательный, порядочный, безумно любивший своих дочурок Максимыч, получив перевод на Тихоокеанский флот, оставляет свою жену, детей и с бригадной парикмахершей улетает на Камчатку. Что, как, почему? — для нас это было неожиданно и непонятно. Как сложилась дальнейшая его служебная карьера и семейная жизнь — не знаю. Ненавязчивую, не оскорбляющую моего «высокого лейтенантского достоинства» практическую помощь в освоении всех механических сложностей оказали мне старшина команды трюмных мичман Шпортько, старшина команды электриков мичман Иванов (бывший флотский футболист) и многие другие старшины и матросы. Запомнился мне обстоятельный, хозяйственный мужичек — командир отделения рулевых и якорно-швартовных устройств лодки. А со штурманским электриком Смульским — простым пареньком из Западной Украины — мы, в первый месяц моей службы на этой ПЛ, совершили «подвиг» (по моей тогдашней оценке): перед выходом на стрельбы самостоятельно за ночь заменили жидкость и чувствительный элемент гирокомпаса со всеми сопутствующими работами. В то время эту операцию выполняли только специалисты гидрографии по заявке. Я был горд, что мои теоретические знания ЭНП претворились в практику. Я вырос в своих глазах, да и подчинённые ко мне стали относиться уважительнее. К сожалению, вскоре Смульский трагически погиб. На лодке шёл ППР, и он, закончив основные запланированные работы, решил выбрать воду из шахты зенитного перископа. В то время, когда Смульский был в шахте, трюмный в соответствии с суточным планом разобрал манипулятор, в результате масло в системе гидравлики перископа стекало, а перископ полз вниз, пока своей массой в 530 килограмм не придавил в шахте штурманского электрика. Никого не наказали, так как виноват был он сам. но морально и командир, и механик, и я чувствовали себя неважно, искренне переживая случившееся. В отличие от большинства своих коллег, замполит нашей лодки капитан-лейтенант Дейнега Иван Александрович, был светлой личностью. Он вырос из трюмных машинистов «малюток» военного времени. Очень внимательный, душевный, настоящий отец-воспитатель, «мало слов — много дела». Иван Александрович настоятельно «блатовал» меня в партию. Я действительно думал, что войдя в её ряды, смогу бороться со злом и несправедливостью, за чёткую организацию службы и твёрдую дисциплину. Кандидатом стал в феврале-марте 1955 года, а в марте 1956 года стал членом КПСС. При приёме члены парткомиссии не задавали стереотипных вопросов, не спрашивали меня о правах, обязанностях и международном положении, а в основном «долбали» за то, что я на своём мотоцикле с коляской «вожу женатиков налево». Я понял и перестал брать с собой женатых.
Хороша ты, холостяцкая жизнь лейтенантская
В молодые лейтенантские годы я сильно сдружился с Виталием Николаевичем Ленинцевым. Мы снимали холостяцкий «вигвам» на улице Николая Островского на корабельной стороне, жили в одной комнате и платили по 200 рублей, которые нам выдавало государство. Хозяйка Марфа Фёдоровна стирала и гладила наши рубашки и бельё за отдельную плату и ежеутренне «выставляла» по литру парного молока каждому на «опохмелку». Я и Виталик имели не только схожие характеры, одинаковые наклонности, параллельные увлечения, (одним словом — единый менталитет), но и одинаковые размеры одежды. У него было гражданское полупальто, а у меня — коричневый костюм, которые мы поочерёдно, а вернее — кто первый, одевали, хотя иногда и происходили «конфузии». Служили мы на разных лодках, поэтому не всегда встречались дома, в увольнении. Однажды я, забежав домой, не обнаружил ни его полупальто, ни своего костюма, которые куда-то «ушли». Раздосадованный, я в форме потащился к девушке, на которую имел некоторые виды, и обнаружил у неё дома... Виталика в моём костюме и чуть ли не в обнимку с моей девушкой!.. Так как мы в то время относились к девушкам легкомысленно, то конфликта не возникло, и мы все втроём завалились в ДОФ, а там уже разобрались, кто с кем. Потом Виталий встретил Валю и очень-очень быстро женился на ней. На свадьбу, кроме традиционных подарков, мы преподнесли Виталию... тазик с намёком (до этого он любил обклеивать стены нашей холостяцкой комнаты своими носками). Валя оказалась очень разумной, порядочной женщиной, протащившей Виталика через все жизненные пороги. Мы (я и моя жена) встречались с ними с периодичностью в пять-десять лет то в Севастополе, то в Кронштадте и всегда чувствовалось, что бесшабашному, безалаберному Виталику нужна была именно такая жена. С остальными однокашниками — черноморцами я иногда бывал в одних компаниях, за одним столом в «Приморском» или на танцах в ДОФе (других развлечений тогда не было), но служба не позволяла нам встречаться часто, а постоянные перемещения лодок «вверх по меридиану» внутренними водными путями прореживали наши ряды ещё более. К декабрю 1953 года я сдал на самостоятельное управление боевой частью и чуть было не загремел в поход на ПЛ С-70, которая испытывала РДП первоначальной конструкции. После месячной автономки С-70 по всему Чёрному морю были награды: орден Красного знамени получил командир капитан 2 ранга Рыбалко (впоследствии командовавший бригадой ПЛ в Албании), все офицеры и прикомандированный с береговой базы разгильдяй-кок были награждены орденами «Красной звезды», а некоторые из личного состава — медалями. Наградной дождик был непривычен и неожидан для черноморцев. Потом «золотая» туча с наградами переместилась и остановилась в Западной Лице, Гремихе, на Камчатке. Но..., кроме наград, была большая загазованность в отсеках во время похода. РДП, конечно, переделали, направив выхлоп газов в воду и отделив его от поступающего воздуха. Позже я выходил в море на этой лодке, и доктор показал мне медицинский отчёт за поход с описаниями состояния внутренних органов личного состава. Ужас! Не зря их болячки завесили орденами, а адмирал Рыбалко явно ушел из жизни ранее положенного срока. В тот «героический» поход я не пошёл потому, что в кармане шуршал отпускной за неиспользованный отпуск 1953 года и даже билет на поезд или самолёт. Большой чемодан, с которым я прибыл на флот, был уже уложен: слой больших сотенных , разложенных по днищу (за два месяца это 4800 рублей, то есть 48 бумажек, плюс накопления), прикрывали восемь толстенных по 0,8 литра бутылок различных мускатов и... чуть-чуть белья сверху. Всё остальное — на мне. Таков был выход, вернее выезд, в мой первый офицерский отпуск.
Служу усердно, начинаю продвигаться
В 1954-1955 годах я заработал неплохой штурманский рейтинг (авторитет). Было много сбор-походов, штурманских походов, участий в учениях, в атаках боевых кораблей и конвоев, то есть всего того, чем занимались тогда торпедные подводные лодки. За точную постановку на рейде Судак по диспозиции только по данным РЛС (я был загнан вниз и оттуда руководил выходом в точку якорной стоянки) получил личную благодарность от начальника штаба подводных сил Черноморского флота контр-адмирала Хийянена, про которого говорили, что он не только немногословен, молчун, но вообще никогда никого не поощрял. Вывод ПЛ после трёхсуточного подводного плавания без всплытий и обсерваций с использованием только «Атласа течений» точно на зелёный огонь бухты Джубга на Кавказе, где мы поставили мины под кораблями на рейде, также поднял меня в глазах начальства. Затем меня пропечатали во «Флаге Родины» — фото у штурманского стола с соответствующей хвалебной надписью. Лодка не без моего участия хватала какие-то призы и рисовала звездочки на рубке. В общем, я шёл в гору. Но... хвалить себя вредно, а хвастаться самовлюблённо — ещё более. Уже став «старшим лейтенантом», во время перехода бригады подводных лодок на Кавказ передоверил ведение прокладки в ночное время двум офицерам — стажёрам, а сам пошёл отдыхать. Утром включил РЛС, когда по счислению до мыса Дооб было 30-40 миль, и... ждал его появления на экране ещё часа два-три! Хорошо, что мы были сзади, а если бы впереди счислимого места?! Разобравшись, что при переходе с карты на карту мои великовозрастные «стажировщики» допустили ошибку в одну клетку между меридианами, равную 20 минутам долготы, то есть примерно 15-18 милям по курсу, честно доложил находившемуся на борту флагманскому штурману флота капитану 1 ранга Мотрохову, впоследствии ставшему флагманским штурманом ВМФ и контр-адмиралом. Никаких приказов, разгромов не было, наоборот, он приветствовал моё признание и пожелал мне запомнить этот урок на всю жизнь. Чувствовал я себя скверно, вся спесь свалилась, слетела с меня. Во время одного из сбор-походов бригады на рейде Судак на завтрак выдали рижскую ветчину в больших овальных банках. Не только хохлы, но и все остальные «рубанули» её с большим удовольствием и в большом количестве, особенно командир Шилюк. После завтрака снялись с якоря и стали подходить к плавбазе для приёма мин. И вот, когда до борта плавбазы оставалось метров 50-100, командир и старпом начали «травить». Почти все из обеих швартовных команд «перевесились» через леера и тоже нещадно «травили». Сквозь рвотные рулады командир пытался подавать команды. Я заменил его (опять хвалюсь!) и с горем пополам ошвартовал лодку. К этому моменту на барбете под орудием (тогда оно у нас ещё было) рыгали человек 20-25, то есть половина команды. Все офицеры, кроме меня (я жирное не любил) и командира рулевой группы Саши Бондарца (ему не досталось), были «в лёжку». На плавбазе быстро организовали лазарет, всех перенесли туда и сутки или двое промывали марганцовкой. Жертв не было, хотя командир БЧ-2-3 Витя Шевченко умирающе стонал: «Передай Любе, я ей всё прощаю!». А мне пригодился этот неожиданный урок швартовки при швартовках к пирсу в Южной бухте, которые изредка разрешал командир. Было ещё много всяких эпизодов, в том числе и рискованных: сон вахтенного офицера, того же Вити Шевченко, упёршегося лбом в перископ, когда лодка проскочила с заданных 50 метров глубины на глубину 120-180 метров; всплытие под сейнером при летней гидрологии моря, когда шума винтов сейнера не слышно (в благодарность, что не утопили, получили несколько камбал), и многое другое подобное. Да, нам на юге было легче, чем на Северном флоте или на ТОФе, но и труднее. Легче — чаще солнце, чаще умеренное волнение, большие глубины, выраженные береговые ориентиры. Труднее, рискованнее — плотный слой скачка в летнее время, множество судов в некоторых районах. В остальном — то же море, те же волны, ветер, качка, водо-солярная смесь и запахи в отсеках, не справляющаяся регенерация, сонливость, грязь, запоры, гастриты, геморрои и так далее и тому подобное. Постоянные изо дня в день выходы в море изматывали наши экипажи. Уже позже в привилегированном положении находились только первые ракетные лодки, которые, образно говоря, выходили в море один раз в год на ракетные стрельбы и на них работал весь флот. Такой подводной лодкой была С-69, которой командовал Коля Калашников. Он сумел «не сгореть», хотя «подгорал», и даже, по-моему, получил орден. После удачных стрельб, а они всегда получались отличными, каждого командира ракетной ПЛ представляли к «Красной Звезде». Такой же путь: «ракетная стрельба — орден — делегат съезда» прошёл и мой коллега и в какой-то мере друг — будущий командир 14 дивизии подводных лодок Алексеев Станислав Георгиевич — «Стас» (выпускник Рижского ВВМУ 1956 года). В декабре 1956 года меня назначили помощником командира ПЛ С-100, стоявшей в плавдоке в Южной бухте. Дела я принимал у однокашника Вали Лентовского. И хоть я противился назначению по командной линии (хотел стать флагманским штурманом), сразу же включился в суматоху доковых работ. Ежедневно мы с механиком всесторонне обдумывали план на следующие сутки, расписывали по-фамильно личный состав на работы , что позволяло нам чётко проводить запланированное. Конечно, были сбои, но когда доковым ремонтом руководят один-два, лучше — один человек, постоянно, от начала до конца, беспрерывно, то ничего не упускается и не бывает несчастных случаев или непредвиденных ситуаций. В дальнейшем я всегда придерживался такого стиля работы, такого «единовластия» не только в доковом ремонте, не только на военной службе, но и на «гражданке». Закончив докование, ПЛ С-100 вступила в обычную круговерть: выходы в море, выполнение своих задач, обеспечение боевой подготовки других, участие в учениях и тому подобное. Некоторый просвет появился тогда, когда мы месяц стояли в Учебном отряде подводного плавания в качестве ознакомительного экспоната для молодых матросов-подводников.
Ещё одно увлечение или «первый блин комом»
В этот месяц затишья 1956 года я приобрёл «Москвич-401» и мечтал съездить на нём в отпуск в Ленинград. Машину я купил по наводке друзей в совхозе в Куйбышевской долине Крыма весьма потёртую, так как она была не в одних руках. В качестве технического консультанта-эксперта я взял с собой товарища-подводника Юру Светлакова, который когда-то ездил на трофейной машине отца. Я продолжал владеть мотоциклом «М-72» с коляской, на котором мы — Юра, матрос-водитель и я двинулись «на дело». Испытывал «Москвич» Юра, но как оказалось, он, вцепившись в руль, кроме восторженного ощущения дороги и эйфории скорости (тоже мне, скорость 401-го!), ничего не слышал и не видел. Я сидел справа и легкомысленно рассматривал обвисший потолок (приклеим!), сломанную ручку дверцы (достанем, сделаем!), плохо закрывающееся стекло (отрегулируем!). По пути тормоз стал работать только после пяти-семи качков. Мы привезли эту развалюху в бокс учебного отряда. На следующий день появился «главный судья» — Володя Тимашев (выпуск 1952 года), мой мотоколлега и друг ещё по училищу, который служил на эсминце и у отца которого в Ленинграде был аналогичный «401-ый». Володя деловито залез во внутренности автомобиля и тут началось такое!.. Он ругал меня всеми нелитературными словами на всех языках, самым «ласковым» было: «... штурман». Сам он был артиллеристом, впоследствии ракетчиком. А как он их произносил! В каждое слово были вложены тонны убийственного презрения, центнеры отрицательных эмоций и цистерны помоев. И всё это на мою не очень глупую, но явно не доросшую до автовладельца голову. Хотя я к моторам имел отношение еще с 1952 года и, между прочим, моим учителем был сам Володя. Так кого же он ругал: меня или себя ?! «Ищи себя в учениках своих» — сказал кто-то из мудрых и, конечно же, древних. Многие из офицеров — подводников, кто приобретал мотоциклы, сдавали их мне на обкатку, даже такие механики, как Макс Путилин с ПЛ С-98. Значит, я имел мотоавторитет, значит я был корифеем в этом деле. Но ругаться можно было бесконечно и бесполезно, а дело надо делать. После тщательного осмотра и составления длинного списка «болезней» и ремонтной ведомости, всестороннего в спорах обсуждения, мы вынесли вердикт: «подмандить» (другого слова нет — заляпать, замазать, кое-как подремонтировать) и продать. Жестокий приговор окончательно разрушил мою вторую «голубую мечту» — появиться на ленинградских проспектах в собственном автомобиле и сразить наповал, конечно же, всех девушек и женщин... И теперь каждый вечер мы ковырялись в боксе: меняли манжеты тормозных цилиндров, чистили и подкладывали прокладки под головку блока, наматывали проволоку (!) в тормозные барабаны, заменяли масло на более вязкое и тому подобное, то есть готовили на продажу явную «туфту». В результате сломали одну самую неудобную шпильку в блоке двигателя и две недели вручную высверливали её. Наконец, машина приобрела товарный вид и послеинфарктную резвость, и мы повели ее на «толчок». Тогда это была небольшая площадка на месте разрушенного в войну дома на улице Толстого. Там собиралась толпишка — группка людей, жаждущих, но не очень спешащих приобрести хороший автомобиль за «ничто». Они подходили, щупали, грамотно выспрашивали и «обсасывали», но не покупали. Через два-три посещения они потеряли к нам свой интерес и мы их тоже перестали замечать. Вдруг появился какой-то мужичек то ли с Севера, то ли с Камчатки и очень внимательно порывшись в нашей «кукле», купил её за шесть с половиной тысяч рублей, пообещав, что, если коробка передач не заскрежещет (видимо, что-то учуял!), отдаст ещё пятьсот рублей, то есть в целом — нашу «закупочную» цену. Но так и не отдал... Мы были рады, что избавились от такого приобретения. Конечно, я не сразу привык к мысли, что сделал неудачную, непродуманную, поспешную покупку, но, в конце концов, согласился с Володиными доводами и, немножко покатавшись, расстался с авто без особой боли.
«Не в свои сани не садись...»
Стоит рассказать ещё об одной истории, связанной с Володей Тимашевым и моим мотоциклом. Ближе к осени 1956 года я уехал в отпуск, оставив свой М-72 Володе. В Ленинграде получаю телеграмму: «ты утверждён на классы (фактически в загранкомандировку), нужна передняя вилка». То есть сначала пряник, потом палка. Не сразу и разберёшься. Вместе с отцом Володи — Дмитрием Владимировичем начали выполнение задания по поиску передней вилки для М-72. Небольшое отступление: Дмитрий Владимирович — настоящий, врожденный интеллигент, возможно, дворянских кровей, был в 37 году осуждён. В войну отпущен на фронт (кажется, через штрафбат). Воевал, командовал авторотой связи и дослужился до капитана. При слове «Сталин» замолкал, уходил в себя, запирался створками, как улитка. В Севастополе меня встречал на привокзальной площади Володя на новом М-72 с переделанным с левой на правую рукоятку сцеплением. И я узнал следующую историю. Володя, имевший совсем обычную внешность, рано начавший лысеть, прорвался, расшвырял соперников — сверкающих золотом лейтенантов и старлеев, молодых и красивых, мечтающих сделать карьеру, и стал «ухажёром» дочки нашего Горшкова, год назад переведённого с Черноморского флота в Москву и, по-моему, уже ставшего Главкомом ВМФ. Лена (так звали дочку) была в Севастополе на каникулах. Как-то само собой получилось, что из всей свиты золотой молодежи выбрала скромного (но надёжного!) Володю. Однажды они на моём (подчёркиваю «на моём») мотоцикле ехали по ялтинской дороге (старой) и на каком-то закрытом повороте столкнулись с милицейской оперативной машиной. Володя вылетел на её капот, приняв удар на левую руку (поэтому и переставил сцепление), а дочка Горшкова ударилась о ребро коляски коленкой и ещё чем-то. Короче, попала в госпиталь. Я, когда возвратился из отпуска, ежедневно мотался на мотоцикле из бригады в Стрелецкую, где Володя учился на курсах ракетчиков, вёз его в госпиталь на Корабельную на свидание с Леной и тот же маршрут проделывал в обратном направлении. В начале ноября я уехал в Ленинград в антарктическую экспедицию, а их любовь всё разгоралась и доходила до обоюдного желания «соединиться навечно». Позже я узнал, что Володиных родителей приглашали, вернее, вызывали в Москву для знакомства, «в гости» к Горшковым. Кто кому не понравился — не знаю, но полагаю, что прошлое Дмитрия Владимировича потянуло на разрыв. На флот летит приказ из центра: «срочно рассчитать В.Д.Тимашёва и отправить на Камчатку» — естественно, под благовидным предлогом — на повышение. За два дня у него приняли дела, выдали документы и ... вперед. Но Ромео и Джульетта не хотят расставаться друг с другом. Они встречаются в Москве с твердым намерением продолжать путь вместе, причём она тайно собирает чемодан и хочет сесть на тот же самолёт, на котором летит Володя. Но ... парни в штатском не дают ей сделать это. Володя улетел один... В первые месяцы — обоюдные захлёбывающиеся телефонные звонки, телеграммы, письма, потом — реже и реже. А через полгода — равнодушный зевок в телефонную трубку: «Кто это? Какой Володя?.. Ах, это ты... А я выхожу замуж...» (конечно, за дипломата, как хотел папа). Вот и вся история про военно-морского Ромео и подтверждение народной мудрости «не в свои сани не садись...». Слышал, что Володя много лет отслужил на Камчатке, стал командиром ракетного корабля, затем перевёлся в Ленинград в НИИ. Женился на той, которая была вхожа в их семью и которой он был верным другом, товарищем. Кстати, В.В. Конецкий в одном из рассказов упоминает о Володе и очень хорошо о нём отзывается, но наверняка не знает об этой истории с высокопоставленной дочкой.
Краткая выписка из огромного тома семейной жизни
Осенью 1956 года я познакомился со своей будущей женой, но эту очень интимную тему можно выделить в отдельные тома. Коротко скажу, что знакомство наше, начавшееся очень бурно, было прервано моим отъездом в командировку, и не сразу, но продолжилось после возвращения из Антарктиды. Мы были вместе везде: на танцах в ДОФе, в ресторанах, в поездках на мотоцикле. Об этом знало всё «общество». А в 1958 году, когда деваться уже было некуда, оформили свои чувства. Забегая вперёд, скажу, что жизнь прожили интересно, разнообразно, не давая скучать друг другу. Не всегда было всё ладно, вероятно, как и во многих семьях. Теперь имеем взрослых дочь и сына, почти взрослых внука и внучку от дочки, а от сына с невесткой ждём и надеемся. Очень хочется маленьких, так как внуки выросли: один курсант второго курса ВВМИУ в Пушкине, а вторая — одиннадцатиклассница, «мисс фото» и «мисс очарование» местного значения. Жена — из морской семьи, дочь и сын — оба «родились в море», то есть тогда, когда я был в море (на боевой службе и просто на выходе). Дочь замужем за флотским медиком, добравшимся до полковника. Сын — радист военного транспорта Черноморского флота, женат на студентке Севастопольского Государственного технического университета — дочери подводника. Так что, кругом всё морское, всё связано с морем.
Путешествие в Антарктиду
В ноябре 1956 года меня переодели в цивильное, выдали гражданский паспорт (впервые в жизни!) и уже гражданским, согласно легенде уволенным в запас по «миллиону двести», я прибыл в Ленинград в гидрографию ВМФ, где формировался отряд на дизель-электроход «Лена» 2-ой Антарктической экспедиции. Возглавлял её капитан 1 ранга гидрограф Борщевский Олег Александрович. В состав пятёрки подводников входили штурмана: с Балтики — Женя Мучкин и Модест Бойко (?), с Севера — наш однокашник Сергей Рудаков, а с Чёрного моря — я и Толя Шебанин (выпускник нашего училища 1954 года, впоследствии комбриг ПЛ, начальник отдела кадров ТОФ, контр-адмирал). Почему-то меня назначили старшим этой хитрой пятёрки, что особых забот не вызывало. В Антарктиде я вёл единственный в моей жизни дневник, поэтому опишу только самое интересное, обще и кратко броскими, как ордена на «Государственном совете», репинскими мазками. Наш поход на дизель-электроходе «Лена» начался в декабре 1956 года из Калининграда и закончился в мае 1957 года в Ленинграде. Туда мы везли оборудование, смену полярников, обратно — пробывших 18 месяцев в отрыве от Родины и семей членов 1-ой экспедиции с их отчётами. По пути туда заходили в голландский порт-завод Флисинген, где строилась «Лена», и в Кейптаун (ЮАР) для пополнения запасов перед Антарктидой. А на обратном пути — только в Кейптаун. Так что я побывал «в Кейптаунском порту», как было предначертано пиратской песней нашей лихой курсантской молодости.
Кейптаун, 1957 год
В Антарктиде двадцать дней заняла круглосуточная выгрузка оборудования, топлива и продуктов на ледовый припай в районе Мирного. Работали все, невзирая на ранги, научные звания и возраст, по двенадцать часов в сутки. При выгрузке случилось два обвала припая, около которого мы стояли на ледовых якорях. В первый обошлось без жертв, если не считать, что Серёга Рудаков, который был сброшен на льдину и затем перебрался на спасательный плотик, проплавал на нём часа два.
Переход в Антарктиду на дизель-электроходе «Лена». Облокачиваюсь на вертолет МИ-4
Плотик ветром и течением относило от «Лены» и катер «Пингвин», где мы с Толей Шебаниным были подменными (или сменными) старшинами-капитанами, собрав потерпевших, находившихся вблизи, еле догнал этот плотик. Так что Серёжа получил полный стресс и кайф от общения с ледовой пустыней. Второй обвал унёс две жизни — гидрографа капитан-лейтенанта Николая Буромского и курсанта Арктической мореходки — Женю Зыкова. Их похоронили на острове вблизи Мирного, где уже была могила тракториста Ивана Хмары, ушедшего под лёд в 1-ой экспедиции. Остров получил название Буромского. В очень тяжёлом состоянии после обвала были главный механик «Лены» Евгений Петрович Желтовский и ремонтный механик Иван Андреевич Анисимов. Человек десять было помещено в лазарет «Лены», в том числе мой сосед по каюте гидрограф Толя Дадашев и наш непосредственный начальник Роман Михайлович Книжник. Наша пятёрка штурманов-подводников с добавлением одного гидрографа несли трёхсменную вахту по два человека на мостике «Лены»: счисление и определение места, но без судовождения, за которое отвечал капитан и штурмана судна. Счисление было сложным, так как практически поминутно учитывались все повороты и курсы маневрирования во льдах. Определения, по возможности не менее двух за вахту, производили по очень низкому солнцу секстаном ИАС (интегрирующим, авиационным), удерживая светило в перекрестии секстана на пузырьке уровня — искусственного горизонта, так как естественный горизонт — это глыбы льда и горы айсбергов. Удерживать солнце на искусственном горизонте приходилось по 20, 40, 80 и 100 секунд при трясущейся палубе от реверсов машин и ударов льдин о корпус. Тяжёлая работа. У каждого из нас набралось за это плавание около трёхсот астрономических задач по определению места судна. Это была хорошая практика.
Вот такой я был сосредоточенный молодой штурман.
Нашу прокладку, решения задач и определения места сразу же проверяли в лаборатории гидрографы «в четыре руки», определяли среднюю квадратическую ошибку и «разносили» невязки. Потом, ещё на судне, всё это переводилось в установленные масштабы и разносились по карте полученные с лент эхолотов глубины. И уже в Ленинграде всё проверялось вновь, просчитывалось, наносилось на карту снова и готовилось к печати. Карта выходила в свет примерно через год. Надо сказать, что это были первые советские карты Антарктиды. До этого — либо английские на половину земного шара, либо — чистые планшеты (карты — сетки). Иногда, когда место вели радиокоординаторы, высаживаемые на берег в двух точках, мы стояли вахту на эхолотах. Иногда садились на обработку планшетов. Это была уже «прогулочная», не утомительная работа. Из молодежи экспедиции были созданы два спасательных отряда с вооружением -— карабинами и лыжами. Мы «разбивали» на льду взлётно-посадочную полосу для наших двух Ан-2, то есть руками, лопатами и киркой ровняли полосу, скалывали зазубрины льда, расставляли бочки с соляркой для обозначения полосы в тёмное время. Только сделали ВПП —льдина трескается или на неё надвигается большой айсберг, и работа начинается сначала. Делали всё: выгружали оборудование из самолётов, везли сани, управляли трактором, ловили пингвинов для чучел. Большими мастерами в изготовлении чучел были Женя Мучкин и я. Мы даже «охотились на заказ». А Женя, уговорив начальство, ухитрялся оставаться на льдине или на берегу в так называемых астропунктах на ночёвку с гидрографами, гляциологами и другими «научниками». У меня были дополнительные обязанности: вместе с гидрографом Володей Киселёвым мы летали на Ан-2 или Ми-4 вглубь континента, зарисовывали, фотографировали и описывали горки, приметные ориентиры, а затем наносили их на планшеты и карты или готовили материалы для лоции. Одновременно с нами зоологи изучали и заготавливали местную фауну, то есть охотились на тюленей.
Антарктида, 1957 год. Пингвиний базар
Было интересно, но не только из-за разнообразия действий, смены мест и обязанностей, но и тем, что каждый крупный специалист, профессор в своём деле, просвещал всех, читая лекции по своему направлению, очень полезные и познавательные. И сами люди, как военные (хотя мы все официально были гражданскими), так и чисто «научники», были интересны друг другу. Я приобрёл в экспедиции много друзей и с некоторыми из них поддерживал многолетние приятельские отношения: Саша Пушков впоследствии стал одним из руководителей Института земного магнетизма, Володя Коржов — «колдун» установки для измерения земного тяготения, Коля Котломанов — радист-полярник. Толя Дадашев — гидрограф и многие другие. Об Антарктиде можно рассказывать много и долго — ею «заболевают». Написано о ней также немало (Юхан Смуул «Ледовая книга» и другие книги-дневники). Рассказывал о ней и Юрий Сенкевич — участник одной из последующих экспедиций. Повторять и описывать экзотику, пингвинов и тому подобное не буду, но о двух эпизодах упомяну. Первый эпизод. «Лена» и «Обь» встали примерно в трёх километрах друг от друга. С обоих судов потянулись навстречу «ходоки»: кто за фильмами, кто в гости, кто просто за компанию, как я, поглядеть на свежие лица. Где-то на середине пути группы встретились и, присмотревшись (а одеты мы все почти одинаково — по полярному, да ещё и в тёмных очках), узнаю Мишу Лезгинцева! Вот это встреча двух однокашников (вернее, трёх: плюс Серёга Рудаков)! Почти на Южном полюсе! И второй эпизод. Пошли мы на «Пингвине» в мою смену к теплоходу «Кооперация» что-то отвезти или что-то забрать. Просто так, ради прогулки, увязался с нами Серёжа Рудаков, а механиком мне дали члена 1-ой экспедиции, который с подходом к «Кооперации» сразу же растворился в каютах среди своих друзей по Мирному. Стоим у борта, ждём. Вдруг с мостика «Кооперации» кричат: — «Отходите, надвигается айсберг, меняем место». И начинают работать машинами. Я умел запускать двигатели, но в обслуживании их был слаб. Мы с Серёжей отходим от «Кооперации», чуть не попав в струю её винтов, которая стремилась нас перевернуть, и следуем за судном. Погода испортилась моментально: сильный порывистый ветер, снежный лепящий заряд, ничего не видно. Открыли дверцы рубки, Серёжа с одного борта, я с другого. На секунду увидев тень — пятно кормы «Кооперации», правил в кильватер. Часто эта спасительная тень исчезала надолго, связи никакой нет. Возникало острое чувство потерянности в этом ледовом мире, оторванности от людей, заброшенности, чувство человека-букашки перед неотразимостью величия и мощи природы. Подобные ощущения появлялись у меня и в Афонских пещерах. Ну, а потом — прибытие в Ленинград, торжественная встреча «героев Антарктиды» (примерно как «Славу» в Одессе). После радостных встреч, а встречали меня почти все ленинградские родственники, начались отчёты, которые мы писали, компоновали заготовки, сделанные ещё в рейсе при возвращении, формулировали «умные» выводы. Сейчас, думаю, уже можно чуть «приоткрыться»: отчёт по разведке — фото, описание, хронология и координаты; гидрографический отчёт — нас касались только некоторые уточнения; и третий — самый главный, непонятный для чего и поэтому трудный — о возможности использования дизельных подводных лодок в Антарктиде. Две американские «Балао» уже ходили в южных льдах. Меня проконсультировали «научники» — пиши смелее: вступление — указания такого-то съезда партии и историческая справка, упомянуть русский приоритет (тогда это было очень модно) в открытии Антарктиды (Белинсгаузен и Лазарев на шлюпах «Восток» и «Мирный»), описательные разделы со статистикой, данными этой экспедиции и выводами по навигации, гидрографии, гидрометеорологии, льдам (безжалостно содрал у «научников»), условиям плавания (фантазировал сам), и последнее — общие выводы — опять здравница всему русскому, советскому и КПСС. Получилось объёмно и с претензией на значительность и научную ценность. Не знаю, читал ли кто-нибудь этот отчёт и кому он пригодился?! Самое ценное — то, что он дал возможность нам с Толей Шебаниным побыть в Ленинграде целый месяц, кроме отпуска.
Московский фестиваль молодёжи 1957 года
Во время отпуска 1957 года я дважды был в Москве и воочию созерцал красоту, торжественность и величие фестиваля молодежи мира. Эта дружелюбная обстановка плюс собственная молодость создавали приподнятое настроение. Всё было ещё впереди: и рост в службе, и женитьба, и светлое будущее, которое «не за горами». Не было никаких теневых мыслей, что когда-то наступит старость, что будешь слабеть и телом и духом, да ещё тебя будут спрессовывать, вдавливать в грязь проблемы перестройки, разрыва Родины... Мне кажется, что от нашего училища на фестивале были два человека: я — самостоятельно в качестве активного зрителя и Джим Патерсон (выпуска 1955 года), который младенцем снимался в «Цирке», а впоследствии стал московским поэтом-писателем, — в качестве рекламы: «вот у нас в СССР даже негр может стать офицером» и сразу же «шпилька», бросок в их корзину: «А у вас в Америке негров бьют и линчуют!». Запомнился такой эпизод во время движения делегаций но Садовому кольцу. Я хотел сфотографировать это красочное шествие в перспективе улицы и выдвинулся из толпы буквально на один шаг. Чьи-то крепкие руки моментально швырнули меня за невидимую черту с проезжей части обратно в толпу (но на спуск фотоаппарата я все же успел нажать). Хотел возмутиться, «разбухнуть», но приглядевшись понял по одинаковым ботинкам. устаревшим костюмам и залежалым галстукам, что имею дело с хорошо организованным, но скрытым оцеплением. Был на стадионе на открытии фестиваля, всё было для нас советских тогда впервые. Очень мощное, яркокрасочное зрелище, но по длительности утомительное. Поэтому остальные мероприятия смотрели по телевизору — тогда ещё черно-белое ТВ впервые начало вести утренние передачи. Мы с матерью остановились у её школьной подруги на Таганке, где молодежи было четверо, включая меня. Кому идти за продуктами, кому готовить еду — разыгрывали: счастливые и свободные врастали в кресла, вцепившись в экран, а те, кому выпало работать, понуро брели в магазин. Правда, потом мы нашли другой путь — заказ по телефону, но за самим заказом все же надо было идти на Котельническую набережную. К концу фестиваля мы приехали в Москву второй раз уже с Володей Тимашёвым на его отцовском «Москвиче-401» и наблюдали толпы иностранцев, их шествия и «тусовки», песни и пляски из окон «персонального» автомобиля. Из Москвы мы возвращались в Ленинград через Белоруссию и Прибалтику. Я понял, что Советский Союз — это не только Ленинград, Москва и Севастополь, и что есть места, где «не ступала нога человека», не было следа от протектора продовольственной машины.
Продолжаю службу на своей подводной лодке
К осени 1957 года я возвратился на своё место помощника командира ПЛ С-100, так как со штата меня не снимали. Вскоре стал старпомом и получил звание капитан-лейтенанта.
1958 год. Старший помощник командира подводной лодки С-100
У нас на этой лодке подобрался дружный и весёлый комсомольско-молодёжный офицерский корпус. Андрей Мороко (выпуска 1955 года) — штурман, затем помощник, Лёня Никитин (тоже наш подгот) — минёр, Валя Мясников — маленький, затем большой механик. Отличался по возрасту, серьёзности и рассудительности командир БЧ-5 Артём Глузман, впоследствии ушедший на Камчатку. Старшины команд трюмных Александр Васильевич Петренко и электриков Владимир Михайлович Корягин были постарше на четыре-пять лет, а боцман Феодосии Францевич (Федя) Зигмунд — почти наш ровесник. Холостяки — Андрей, Лёня и я, составляли одно целое, держались вместе и на службе, и в береговой жизни: вместе бегали в ДОФ, сидели за одним столом в ресторане и в одном ряду на концертах заезжих артистов, которые только начали наведываться в Севастополь. С командирами нам «везло». Одно время лодкой командовал Макеев (имя, отчество не помню) — невысокий, какой-то никакой, торчал на мостике сам, даже обед подавали наверх, «ни рыба — ни мясо», никого ничему не научил и следа никакого не оставил. Другой командир Вячеслав Георгиевич Руфеев вышел из надводников, был командиром тральщика на Камчатке. После подводных курсов стажировался на ПЛ С-71, где я был штурманом. Хороший мужик, грамотный моряк, быстро освоивший подводные премудрости, но ставший изрядно и, главное, постоянно «закладывать за воротник». «Добро» на выход я запрашивал сам, так как командир «переодевался» внизу в каюте, сам и выходил из Балаклавской узкой бухты. Иногда самостоятельно «рулил» весь выход, так как «переодевания» затягивались до храпа на диване. Делал всё сам, кроме РДО о погружении и всплытии (шифровальщику говорил время). Руку с дирижёрской палочкой умело поддерживал механик Глузман. Эта самостоятельность вырабатывала уверенность в своих силах, но никем не контролировалась, поэтому судить, всё ли делалось грамотно, я не мог. Но себе не навредил и успешно сдал на самостоятельное управление лодкой.
Севастополь 7 ноября 1958 года. Праздничное построение. Встречаем командира
Несмотря на «склонность» Вячеслава Георгиевича, мы брали какие-то призы. За успехи в БП и ПП он получил «Красную звезду» и стал делегатом какого-то партсъезда. Всё по схеме? Приз — орден — делегат — и... снятие с должности. Но Руфеева убрали тихонько — перевели, вроде бы по здоровью, в отдел комплектования флота, где он и «сгорел», в буквальном смысле слова — умер. От пьянки. Такая же участь постигла на вид здоровяка Андрея Мороко. От нас он ушёл старпомом на ПЛ С-66 к Мише Наумову и через некоторое время вроде бы неожиданно умер. Утром в субботу его забрали в госпиталь, а в воскресенье вечером он скончался от цирроза печени — любил «баловаться» чистым спиртом, не разведённым. Выводы делайте сами.
Вновь путешествую по всему свету
В марте-апреле 1959 года мы находились на Кавказе для обеспечения Потийской бригады наводных кораблей. Пришла телеграмма: срочно откомандировать меня в распоряжение Командующего Черноморским флотом. Предварительно я имел разговор с нашим Володей Гариным — направленцем подводников в отделе кадров ЧФ. Сдал дела, сел на поезд и непривычным сухопутным кружным путём добрался до Балаклавы. Снова переодевание, документы, легенда. Всё, что выдали, я оставил своему престарелому тестю — капитану 1 ранга в отставке. Выданная одежда как раз соответствовала его поколению комсомольцев 20-х годов. Об этом я имел неосторожность высказываться начальству (из самых патриотических побуждений), которое отнеслось к этому с пониманием. Одел всё своё, став похожим на человека — современника, даже чуть модника. Месяц мы готовились в Одессе. Две недели проплавал на «Украине» для стажировки. Мои фото с экрана РЛС вошли в руководство по подходу-входу в порты Чёрного моря с помощью РЛС, созданное капитаном по заданию службы мореплавания Одесского пароходства. Затем двоих (третий отказался, спасовал) — меня и механика Колю Макарова —внедрили в штат команды маленького (на 600-800 тонн) научно-рыболовецкого сейнера «Орлик». Он только что был получен из Германии. На нём мы походили по Чёрному морю для проверки механизмов. Намечалась интересная работа: посадка на судно научной группы министерства рыбного хозяйства и переход на Цейлон для обследования прибрежных вод на предмет наличия рыбы — рыбразведка. Всего года на полтора!.. Оплата заманчивая — командировочные с вычетом расходов на питание и прочее. Оставалось примерно по 400-500 инвалютных (в то время — «золотых») рублей в месяц. Тогда это была очень большая сумма. После такой командировки можно было купить автомобиль, мебель и прочие «радости жизни» по понятиям 60-х годов. К счастью (мы оба уже были семейными), этот план сорвался из-за каких-то дипломатических неувязок. К сожалению, уплыл «куш», но зато осталась семья. Из Херсона с «Орлика» нас отозвали в Одессу. Началось моё, более чем двухгодичное, плавание на судах Черноморского морского пароходства в качестве судового штурмана.
1959 год. Для определения места судна в океане измеряю высоту светила любимым инструментом. Разве я похож на разведчика?
Ходовая вахта была не обременительна, а основная работа — как получится, в зависимости от конкретных обстоятельств. Цель — ознакомление с будущим театром военных действий, если они (империалисты) развяжут войну, приобретение практики. Придумано, кстати, не нами: немцы всех командиров «пропускали» через гражданский флот, а командиров лодок брали преимущественно из торгового флота. И действительно, маяк Лантерна в Генуе я узнаю издалека со всех ракурсов, а вход в Буэнос-Айрес определю по мутным водам Рио Парана и тому подобное. Побывал во многих портах, в некоторых единожды, в итальянских и албанских — много-много раз: Констанца (Румыния): Итея (Греция); Деррес и Влора (Албания); Генуя, Ливорно, Неаполь, Катания, Бари, Анкона, Ревекка, Венеция (Италия); Гавр (Франция); Лондон (Англия); Стокгольм и Роннеби (Швеция); Тунис (Тунис); Касабланка (Морокко); Конакри (Новая Гвинея); Росарио и Буэнос-Айрес (Аргентина). И это только за одну загранкомандировку.
Не буду останавливаться на экзотике (смотрите «Клуб путешественников», «Непутёвые заметки» и тому подобное). Впечатлений, встреч, смешных, грустных и поучительных историй — масса, это отдельная незабываемая и наиболее яркая глава моей жизни.
1960 год. На одном из судов в заграничном плавании в районе экватора, где рыбы умеют летать
Всё было «0'кей», однако, неудобство составляло то, что при выполнении основной работы надо было скрываться не только от врага внешнего, но и от своих. Вот где мне пригодились знания, заложенные в училище капитаном 1 ранга Сутягиным! Для команды я был демобилизованный, неудачник в военной службе. Истинное моё назначение официально знали только капитан и его первый помощник. Остальные догадывались и иногда провоцировали. Надо было не давать повода, уклоняться от прямого ответа, не подтверждать их догадок и, главное, чтобы запретная тема не исходила от тебя. В любом виде — в официальной обстановке или за пиршеским столом, трезвым или «в стельку». В то же время оставаться общительным, обыкновенным, не выделяться.
1962 год. Это Везувий и руины древней Помпеи
Ну, и не попадаться «врагам», а они тоже кое о чём догадывались: то птичку поставят против моей должности и фамилии в судовой роли, то пустят «хвоста», то идут на прямые провокации. Острые моменты были. В Буэнос-Айресе за нашей группой ходили два «полицая» в штатском (так я их мысленно обозвал). Когда мне это надоело, я резко развернулся и в лоб на русском языке спросил, как проехать в порт. Машинально они мне ответили на русско-украинской смеси и после этого им ничего не оставалось делать, как отстать от нас. Другой щекочущий нервы напряжённый момент: при возвращении в Одессу в Чанак-кале (пролив Дарданеллы) с судна спрыгнули два парня. Один — русский «ваня» (Павлов), а второй — умница Миша Иванов, знающий и английский и тюркские языки и, конечно, наблюдательный. Как потом выяснилось, фамилию Иванов ему дали приёмные родители, а настоящие — жили то ли в Турции, то ли уже перебрались в Израиль. Что он рассказывал, когда заявил о желании получить политическое убежище? А у меня — полная каюта ценного материала, собранного за три месяца плавания по району, где наши бывали редко, да и явновыраженной аппаратуры немало, хоть и в сейфе капитана. Вот и сидел начеку, не сомкнув глаз двое суток, пока стояли на рейде Стамбула, в готовности уничтожить всё безжалостно... Жить-то хочется! Учусь на командирских классах
Всё кончается. Осенью 1961 года кончилась и моя командировка, «вольная» жизнь на гражданских судах. В период плаваний мне было присвоено звание «капитан 3 ранга» и утверждено направление на командирские классы, поэтому новую форму я шил уже в Ленинграде, в ателье на бульваре Профсоюзов (ныне Конногвардейский бульвар). Сшили примерно так же, как когда-то курсантам для московского парада. На многочисленных смотрах я не получил ни единого замечания — такая она была уставная и, в то же время, сшитая по фигуре, с искоркой моды. Эту форму я носил долго. На ВОЛСОКе нам пытались впихнуть трёхгодичную академическую программу за десять месяцев, и мы это с честью выдержали. Мне опять «повезло» — назначили старшиной класса в 16 человек. Приходилось выкручиваться, но я сразу же ввёл молодогвардейскую организацию — разбил на «четвёрки», в каждой — телефон, и всегда знаешь, кто не может придти, потому что «не отошёл», кто не может вылезти из постели любовницы, кто расписывает пульку и не может остановиться. Доклад о наличии личного состава в группе выглядел всегда грамотным и близким к истине: «заболел», но не попал под трамвай, в комендатуру и тому подобное. Классы окончил с отличием и занесением на мрамор (висит ли доска?!). Однако, был инцидент: сдал на чистую пятёрку марксизм (не помню, как точно назывался этот предмет), сбросил из памяти все «измы» и убежал в биллиардную (тогда очень увлекался этой игрой, жертвуя даже обеденными рубчиками). Вдруг врывается парторг курса и зовёт меня обратно в класс, объясняя вызов сомнением преподавателя, что мне ставить «5» или «4». Хотя при ответе он ничего о своих сомнениях не сказал и не уточнял дополнительными вопросами. В нарушение всех правил предлагают взять второй билет — беру, включаю «компьютер памяти» и отвечаю на пятёрку. Оказывается, этот полковник был злопамятен: когда-то на сборе преподавательского состава и слушателей под руководством начальника классов по вопросу организации учебного процесса, я высказал критику в адрес стиля и дикции этого полковника и самой программы, насыщенной ненужной для морской службы философско-политической информацией. Действительно, слово — не воробей, а молчание — золото. Старпомовский период службы
Распределение получил опять на Черноморский флот, хотя просился на ТОФ. Через месяц после отпускного безделья был назначен старпомом на ПЛ С-97, а через некоторое время с прицелом на командира — на С-384, ставшей моей третьей родной лодкой. Надо сказать, что в море выходить и на учения, и на боевую службу мне ранее приходилось на многих подводных лодках: С-70, С-96, С-65, С-66 и других, но основные мои ПЛ это С-71, С-100 и С-384. На С-97 Василий Александрович Ляшов был хорошим командиром, но несколько «мягковатым», и, когда я по молодости начал «закручивать гайки», он не вмешивался. «Гайки» я поджимал только до тех пор, когда на лодке была отработана чёткая организация службы и всё сосредотачивалось в одних руках — в моих. Если офицер опоздал на выход в море — значит плохое оповещение, появилась прореха в нём — виновен старпом, надо проверить все звенья. Забыли взять лавровый лист — не доглядел старпом, не проконтролировал ответственного за получение продуктов. Механик забрал своих людей из БЧ-5, запланированных для работы на корпусе, — значит нечётко составили с ним суточный план, иду ругаться, восстанавливать справедливость (хотя мы с ним на равных, и случалось такое весьма редко). И, главное, в своей работе старпома я стремился к тому, чтобы командир не обременял себя, был ограждён от бытовых, повседневных береговых или морских дел и вступал в командование только в ответственные моменты в море: погружение, поиск, атака, всплытие, авария. Даже придумал афоризм: «Плох тот старпом, который не умеет расписываться за командира». На всех лодках, где был старпомом, планы учений, тренировок, семинары, расписания, организацию службы, схемы и подобные документы и разработки я составлял, рисовал и печатал лично. Как правило, брал старое или похожее и перекраивал на ходу, добавляя своё, иногда даже фантазируя. Это не только укрепляло мои знания, но и позволяло чётко представлять, кто и что конкретно делает по той или иной команде. Что написал или нарисовал сам — не забудешь. Такой же «методы» я придерживался и на гражданском флоте после выхода на пенсию. После заграничных плаваний на судах я довольно-таки быстро восстановил свои подводные навыки и вежливо, но настойчиво рвался выполнять все маневры, начиная от выхода из базы и кончая погружением и всплытием. Василий Александрович предоставлял мне такую возможность, но опять же не оценивал, не разбирал детально мои действия, а ограничивался общими замечаниями или просто одобрительным молчанием. На ПЛ С-384, куда меня вскоре перевели, и где командир собирался уходить на преподавательскую работу, картина была иная. Мысленно я прозвал своего командира Виталия Алексеевича Свешникова «почемучкой». Мне пришлось не только подтверждать свой командирский допуск, но и выполнять боевые упражнения, сдавать курсовые задачи в качестве командира с тем, чтобы с уходом Свешникова лодку не выводить из первой линии. Так решило начальство, и так писалось в суточном плане бригады и флота: «Выполнение ТС-3 старшим помощником командира» или «Сдача задачи № 2 старшим помощником командира», а Виталий Алексеевич выступал уже в роли наставника. Вот тут-то он меня и замучил своими «почему?». После возвращения с моря, когда лодка была уже «привязана», командир, закуривая, бросал мне с пирса: — «Ну-ка, старпом, спускайся, походим, покурим!». Мы иногда по часу дефилировали туда-сюда по причалу, и на меня сыпались его вопросы: — «Почему ты дал средний ход вперед?», — «Почему ты скомандовал продуть быструю тогда-то, а не позже?», — «Почему перед залпом не взял контрольный пеленг?!», — «Почему — ?»... Я потел, старался отвечать тактически грамотно, по подводному и в соответствии с хорошей морской практикой (как сказано в ППСС). Иногда злился, но, остыв, понимал, что вопросы вполне законные, обоснованные, критика справедливая и, главное, командир мне объяснял, растолковывал, как надо делать и почему именно так, а не иначе. Я очень благодарен Виталию Алексеевичу за науку, терпеливость, выдержку (ведь он видел, что я злюсь!). Другой бы не стал так возиться со мною, не загонял бы мой гонор в нужную ячейку, в правильное русло. Как-то на мои нервные возражения, близкие к возмущению, вырывающемуся из маски скрытности, он сказал мне, пожалуй, ключевую фразу: «Если ты в своём командирстве допустишь, чтобы тебе возражали, ты перестанешь быть командиром». И учил: «Разъясняй до, объясняй после, но во время (атаки, маневра и тому подобное) —только беспрекословное выполнение твоей команды». Свешников был сравнительно молодым, но грамотным, подкованным и тактически мыслящим командиром. Ему принадлежит идея составить таблицы безопасных дистанций до противника при стрельбе торпедами с СБЧ (ЯБП). К этой работе были привлечены я и штурман Саша Витаков. Мы скрупулёзно просчитали дистанции безопасности (от попадания в окружность взрыва, радиусом четыре километра) в зависимости от скоростей, курсовых углов и ещё каких-то параметров. Скомпоновали для удобного пользования во время атаки и представили на суд научного общества бригады. Тогда существовали такие «первичные» организации у неординарно мыслящих комбригов, заставлявших командиров шевелить извилинами и направляющих их деятельность не только на «борьбу с пьянками» (методом личного уничтожения), но и на совершенствование тактики.
1962-1966 годы — командую подводной лодкой
Наша лодка при Свешникове получила приз Командующего ЧФ за торпедные стрельбы и за поиск ПЛ «противника», а мне удалось завоевать приз Главкома ВМФ за торпедную атаку отряда боевых кораблей и приз Командующего Черноморским флотом за поиск и атаку подводной лодки. Причём, одна из ракеток, выпускаемых для обозначения хода торпеды, залетела на мостик атакуемого крейсера и чуть не «приземлилась» на аэродромную фуражку самого Горшкова. На лодку полетел семафор: «Благодарю за отличную стрельбу». Не найти торпеду в этом случае было просто невозможно и мы её нашли, а изготовление красивой, грамотной схемы атаки было делом техники. Кроме чётко отлаженной, взаимопонимаемой работы расчёта ГКП и средств «малой механизации» (различных таблиц, планшетов, кругов), у нас был ещё один «секрет»: мы на кальках заготавливали наиболее характерные натовские зигзаги и в атаке, определив два-три промежуточных курса и наложив кальку, могли точно сказать, какой будет следующий. Поэтому сразу же после нового поворота цели, я брал контрольный пеленг, вводил поправку курса цели и командовал «Пли!». Торпеда захватывала цель ещё на этом последнем курсе. Всё это свидетельствовало о том, что к основной нашей задаче — стрельбе торпедами мы относились серьёзно, грамотно, думающе. Разработка вышеупомянутых таблиц и планшетов была для нас естественным творческим подходом к решению главной задачи. По совету комбрига Георгия Васильевича Лазарева я готовил статью в «Морской сборник» с обоснованием и описанием этих таблиц и закончил её, когда Виталий Алексеевич уже перешёл на преподавательскую работу в Севастопольское ВВМИУ (в бухте «Голландия») на кафедру тактики, которую возглавлял герой-подводник Аслан Николаевич Кесаев. Я уже стал командиром ПЛ и был назначен заместителем председателя научного общества (председатель, конечно же, комбриг). Я пришёл в кабинет к командиру бригады с готовым материалом и после прочтения спросил, чью же подпись ставить под статьёй: Лазарева, Свешникова и мою или только?... Статья ушла в «Морской сборник» за подписью только комбрига, так как он уже печатался в журнале и имел какой-то вес. Я не обвиняю хорошего, грамотного человека, не рвача, в плагиате. Тогда было такое время — только по проторенной тропинке, по знакомству, протекции можно было что-то «пропихнуть». Позже этими таблицами заинтересовался ВОЛСОК, и они, несколько «подчищенные» вошли в новый ПМС — руководство по торпедной стрельбе. Так что и мы внесли свой вклад в «науку войны». ПЛ С-384 была лодкой проекта 613-Ц, приспособленной для использования серебряно-цинковой аккумуляторной батареи, поэтому и ГГЭД у нее были помощнее стандартных для 613 проекта. Лодка была несколько «вертлявей» и быстроходнее. Каждая ПЛ имеет свои индивидуальные особенности, также, как и каждый «Жигуль». Наша С-384 использовалась не только как боевая, но и длительное время специально работала на науку, для чего в цистернах главного балласта были установлены гидроакустические приёмо-излучатели по всей длине лодки. Работали у нас «научники» из Горького под руководством доктора физико-математических наук Зверева. Каждый этап длился месяц-два, чего-то они достигали, устраивали банкет, затем уезжали домой для обработки данных и «доводки» аппаратуры. Через полгодика возвращались, как всегда, к лету. Торпеды в 1-м отсеке оставляли только в аппаратах, стеллажи демонтировали и на их место устанавливали всякие «умные» приборы. В одном из экспериментов требовался режим тишины при «лежании» на жидком грунте. Мы здорово натренировались в этом и могли часами «лежать» без движения на слое скачка или «присосавшись» к нему снизу с выключенными механизмами. Однажды я зашёл в 1-й отсек и Зверев, указывая на небольшую пику слабого сигнала на осциллографе, попросил исключить и это. Я знал, что это был «след» работы гирокомпаса и, конечно же, возразил: — «Ну, уж нет!..». В целях безопасности плавания ПЛ не пошёл на удовлетворение их чрезмерных требований. Вообще, работа с «наукой» всегда требовала определенного риска и нарушения всяческих инструкций, иначе дело не двигалось вперёд. Из многих примеров этого, приведу один. Работали мы в районе Сухуми-Пицунда на гидроакустическом полигоне с каким-то ленинградским НИИ. Необходимо было «галсировать» между берегом и буем в 30-60 метрах от него на перископной глубине, имея скорость примерно три узла при наличии течения два-три узла. Вот и «выкручивались», закладывая руля на все 35°, работали толчками, одним мотором и тому подобное, чтобы удержать лодку на курсе и попасть в «ворота». После такого трудового дня исходишь потом, теряешь в весе не меньше, чем Кобзон или Киркоров за юбилейный концерт. Командиром я был требовательным, но памятуя своё прошлое, не вмешивался в деятельность подчинённых старпомов, командиров БЧ-5 и других специалистов, но взаимодействовал с ними. Единственное, чего я не терпел — это «штопорные заходы» руководящих офицеров, так как сам не пил. Доверял и учил, придерживаясь формулы: «каждый начальник делает то, чему он научил своих подчинённых». Ещё в первый год командования практически отработал все упражнения «Наставления по боевому использованию технических средств». Загонял людей до пота. Боцман до сих пор не может забыть всплытие на заднем ходу. Но зато был уверен, что в аварийной и, если нужно, в боевой обстановке они меня не подведут. По этим упражнениям лично составил таблицы, повесил их на шахту РДП в центральном посту и пользовался ими не только в экстремальных условиях, но и при повседневном, спокойном плавании.
1965 год. Чёрное море моё! На ходовом мостике ПЛ чувствую себя уверенно
Из старпомов подготовил несколько командиров: Володю Громова, Сашу Витакова, Костю Александрова, Алексея Ашихмина и других. Одно время в нашем экипаже было пять человек с лодочками на груди — допуск получил даже замполит из гидрографов. Я ему доверял управление ПЛ, правда, только в надводном положении. Доверять управление, давать возможность швартоваться, самостоятельно вести лодку — всё это «вынесено» из торгового флота, где вахтенный помощник капитана отвечает за всё. Он должен уметь расходиться с судами, выполнять маневр «человек за бортом», бороться за живучесть и производить все другие действия судовождения, то есть полностью самостоятельно нести ходовую вахту и юридически отвечать за судно. А капитан на мостик «выползает» тогда, когда он сам этого пожелает или когда его вызовет вахтенный помощник, но вызывать капитана «не модно», не принято на торговом флоте. А на военном флоте зачастую преобладает излишнее опекунство, сковывающее самостоятельность. С личным составом тоже складывались неплохие отношения. Всегда перед выходом большим или малым обходил все отсеки, каждого матроса, старшину оделяя своим вниманием. Обычно по трансляции ставил задачу на выход, рассказывал об особенностях её выполнения. Никогда не чурался простого общения с матросами и старшинами: поздравлял с днём рождения, выслушивал беды и печали, показывал упражнения на брусьях, играл в футбол и тому подобное. Никогда не обещал то, чего не мог выполнить. И это давало свои результаты. Не преувеличивая, убедился уже на пенсии, что «народ» меня уважал, и знают меня бывшие мои подводники больше как командира, чем как начальника разведки дивизии. К февралю 1964 года получил очередное звание «капитан 2 ранга» и с тех пор не изменял его, хотя и были возможности, попытки и желание. Однако, однажды получил по носу, по командирскому самолюбию. Будучи в отпуске, зашёл к двоюродному брату. Его сын, серьёзно занимавшийся в кружке Ленинградского Дворца пионеров и даже участвовавший в международных соревнованиях по моделизму, спросил меня: — «Дядя Никита, а на какой лодке вы плаваете?». Я, гордо выпятив морскую грудь и играя командным голосом, чеканно заявил: — «Я — командир подводной лодки 613 проекта!». На что получил разочарованно-презрительное: — «А, это пройденный этап, устаревшая модель!». Оказывается, ещё в начале 60-х они имели чертежи самых секретных атомных ПЛ и делали их действующие модели. Я был очень уязвлён этим пренебрежительным заявлением какого-то «мальца», «пионерчика», «салаги», хоть и родственника. Служба на лодках на Чёрном море имела, конечно, элементы «экзотики»: Сухуми, Пицунда, Ялта, пальмы, пляжи и тому подобное. Но была она не менее напряженной, трудной, мокрой и потной, чем на других флотах. Ходили на боевую службу под Босфор на месяц-полтора и в Средиземку на два месяца с переходом на Балтику. А потом ещё одна боевая служба при возвращении — всего 8 месяцев. Стояли в боевом дежурстве на рейдах и в озере Донузлав, несли дежурство с ЯБП на борту. Самым издёргивающим, выматывающим было обеспечение науки, боевой подготовки надводных кораблей и авиации — как ежедневное в районе главной базы, так и месяц-два на Кавказе. В моей практике был период в несколько месяцев, когда в бригаде «живых» остались лишь две лодки: моя С-384 и Миши Наумова С-66. Остальные все вышли на «защиту границ»: кто в Чёрном, кто в Средиземном морях. Всё обеспечение свалилось на наши головы. Чтобы как-то пополнить запасы, сделать небольшой ППР, отработать свои задачи, помыть личный состав и дать возможность офицерам и мичманам сбегать домой, мы с Наумовым договорились: неделю подряд обеспечиваю я, неделю — он. Тогда что-то из намеченного для своих лодок получалось, но неделя обеспечения была занята беспрерывными, беспаузными выходами в море. Возвращаешься в Балаклаву часа в два ночи, звонишь ОД и узнаёшь, что в 08.00 ты должен быть в районе БП. Прикидываешь время и даёшь команду: «Личному составу отдыхать на лодке, подъём в 04.30, выход 05.00». «Народ» заваливается кто в койки, еле доползая до них, кто — прямо на боевом посту. Такая вот была круговерть. Какое уж тут воспитание детей и, как сейчас говорят, занятие любовью? (хотя и успевали!). На выходе тоже нет возможности отоспаться, тем более командиру. Моё назначение командиром из-за загранкомандировок произошло несколько позже, чем у одногодков, но я об этом ничуть не жалею. И прокомандовал маловато — всего три года, но испытал, по-моему, всё, что может навалиться на плечи.
Роковой день перелома судьбы
И вот приблизилось 8 мая 1966 года — роковой день резкого перелома моей судьбы. Я готовился поступать в академию, штудировал английский, для чего даже поступил на заочные курсы, грыз теорию вероятностей старушки Венцельт и пытался постичь высшую математику. Лодка стояла на боевом дежурстве в Донузлаве с полным боевым запасом, включая одну торпеду с СБЧ. В предпраздничный день после ужина личный состав, как обычно, убыл на наш степной «стадион». На лодке остались вахта и кое-кто из ленивых. Вахтенный центрального поста при обходе лодки в 18.50 осматривал носовые торпедные аппараты и, обернувшись на хлопок, увидел, как из-за стеллажной торпеды бьёт парообразная струя, которая, попадая на брезент койки, воспламеняет его. Это всё произошло в доли секунды. Вахтенный проскочил пламя, вылетел из 1-го отсека, задраил переборку и объявил тревогу. Личный состав за несколько минут прибежал со стадиона на лодку. В отсек на разведку пошёл другой матрос, снаряжённый в ИП-46, но тут же у переборки «задохнулся», так как ИП ещё не успел разогреться и заработать. Его вытащили и он продышался. Отсек был уже задымлён полностью. Оценили со старпомом и механиком обстановку, и я дал команду заполнять 1-й отсек водой через главную осушительную магистраль и одновременно отдраить сверху торпедопогрузочный люк. Отсек заполнялся очень медленно — «дырка» мала. Прочная переборка 38 шпангоута со стороны 2 отсека сильно нагревалась. Её поливали водой и прикладывали к ней мокрые маты. Вентилировали аккумуляторную яму 2-го отсека. Непрерывно пытались отдраить торпедопогрузочный люк, чтобы подать пожарные шланги с плавбазы «Эльбрус», около которой мы стояли, и с ракетного корабля. Я доложил о случившемся и обстановку на флот через командира ракетного корабля. Когда передние крышки носовых торпедных аппаратов стали «дышать», то есть отжиматься давлением из 1-го отсека, я разогнал все ракетные и торпедные катера от причала и отогнал от борта ПЛ С-157 Володи Храповицкого, так как представлял, что будет, если мои торпеды взорвутся. Отдраивание торпедопогрузочного люка шло очень тяжело: внутреннее давление прижимало кремальеру и не давало её разворачивать. Последним, кто нажал на рукоятку защелки был старший матрос Борис Нечаев. Злой «джин» вырвался из отсека — давление отбросило крышку. Струёй чего-то жёлтого, обжигающего меня и старпома Костю Александрова отшвырнуло от сидений мостика к радиопеленгаторной рамке. Когда я открыл глаза, — всё вокруг было жёлтым, плотным, ничего не было видно. Я ущипнул себя — жив, окликнул Костю — жив и бросился к носу командовать. Подали несколько шлангов с плавбазы и ракетного корабля и начали заливать отсек. Бориса Нечаева струя вырвавшегося давления отбросила на борт плавбазы и он, получив от удара смертельную травму, ушёл в воду. Бросившегося спасать его радиста Кудрю я остановил, так как прошло уже 6-8 минут и было поздно и бесполезно искать Нечаева в воде. Водолазы нашли его тело только на третий день поиска в стоячем иле. Борьбу за живучесть лодки продолжали часа два-три. Как только начинали осушать отсек — торпеда возгоралась снова. Наконец, она иссякла, вернее притихла. Сразу же лично доложил Командующему ЧФ адмиралу Чурсину С.Е. и не откладывая, прямо в черновом вахтенном журнале описал на трёх листах, что случилось, возможные (предполагаемые) причины, свои оценки и решения, действия личного состава и группы кораблей боевого дежурства. Это в дальнейшем избавило меня от лишних расспросов всевозможных комиссий. На следующее утро (вместо праздника Победы) начали выгружать торпеды. Я всех «рангов» из комиссии отогнал на безопасное расстояние, чему они не очень противились, сел на раскладушку на причале и руководил выгрузкой и транспортировкой торпед. Капитан-лейтенант Ячменёв, закончивший и классы минёров, и классы флагманских специалистов, но засидевшийся в командирах БЧ-3 и поэтому обиженный, лезть в 1-й отсек отказался. Недавно прибывший помощник капитан-лейтенант Балтии Эдуард Дмитриевич (в будущем Герой Советского Союза, командующий ЧФ), как бывший минёр, вызвался идти в 1-й отсек, наладил торпедопогрузочное устройство и очень чётко работал там и, главное, докладывал обстановку наверх. Сначала мы выгрузили виновницу происшествия, которую постоянно поливали из шлангов, так как она всё время вспыхивала. Остальные торпеды «выскакивали» почти как обычно. Представители минно-торпедного отдела флота сливали перекись, обезвреживали и осматривали торпеды. Это длилось весь праздничный день 9 мая. Результат этого пожара, этого события следующий: - Бориса Нечаева почётно похоронили на родине, в Балаклаве поставили памятник, посмертно наградили орденом «Красная звезда»; - 1-й отсек выгорел полностью, в том числе и личные вещи 22-х его жителей. На восстановление ушёл месяц и бочка спирта, безвозмездно выделенная начальником технического управления ЧФ контр-адмиралом Смирновым Н.А.; - Командира БЧ-3 Ячменёва, который прочитал примечание в ПМС, написанное мелким шрифтом, но решил в праздники не осматривать подозрительную торпеду (не выделявшую пузырьки в контрольный стакан), и не доложил о своих сомнениях, назначили основным виновником, и военный трибунал дал ему год условно, вычет двух или трёх окладов и снижение в должности. Он спокойно дослужил в торпедном арсенале того же МТО, кажется, тоже до «2-го ранга»; - МТЧ береговой базы, неверно приготовившую торпеду, обошли стороной, совсем не задели. Начальник МТЧ получил майора и быстро уехал на Камчатку, чтобы стать подполковником. Сейчас в Балаклаве мы состоим в одном Совете ветеранов и раскланиваемся любезно; - Меня отставили от академии, сначала объявили то ли строгий выговор, то ли предупреждение о неполном служебном соответствии, а затем главком (тот же Горшков), возвратившись из какого-то визита, усилил наказание до снятия и понижения в должности, несмотря на заключение очень компетентной и серьёзной комиссии во главе с вице-адмиралом Костыговым — начальником МТУ ВМФ: «Только решительные и грамотные действия командира ПЛ, отработанность и слаженность экипажа не позволили разрастись аварии — самовозгоранию торпеды в 1-м отсеке ПЛ — в катастрофу» и так далее. Именно за это, только читаемое с приставкой «не», мне быстренько «вкатали» строгача по партийной линии ещё до заключения комиссии, которая, кстати, причину самовозгорания определила в техническом несовершенстве торпеды. Родная Партия не подвела, успела! Все сочувствовали мне, знали, что ни в чём не виноват, но взыскание Главкома может снять только сам Главком. Вот тут- то с меня начали слетать розовые очки. Я увидел, что каждый прикрывает свою задницу: командир БЧ-3 оказался лгуном и трусом; начальник флотского МТО, внедривший новые для того времени торпеды «53-57» с перекисью водорода (75%), не контролировал их состояние и хранение на лодке; начальник МТЧ, боясь подвести своего командира береговой базы, который распорядился отправить весь личный состав на разгрузку вагонов, поджал хвост и молчал, что торпеду готовили совершенно не допущенные и не знающие её люди. Ну, и так далее. Кроме того, до этого случая всё было хорошо, я шёл вверх, и вдруг начали копать вокруг меня: и боцман у меня в прошлом году подхватил сифилис (не от меня же и не на службе!), и пьяного командира БЧ-5, который еле мычал в центральном посту, я в сердцах грубо ткнул головой в МКТУ, и... А больше и не было ничего. Раньше я считал, что призы за успешные торпедные стрельбы и тому подобные заслуги шли в мои плюсы, а оказалось, что эти плюсы сразу «накрылись», превратились в ничто и даже в минусы, а дорогу надо пробивать плечами, нахальством, лизоблюдством, но не умением и добросовестностью. Это наказание было не столько служебным, сколько моральным, психологическим ударом.
Ссылка
Меня на год сослали ... на Северную сторону Севастополя в минный арсенал командиром минно-тральной группы. Это около ста человек береговых моряков, которых не взяли на корабли или списали, — чифирщиков, дебилов и просто разгильдяев, ремонтирующих и переприготавливающих мины на флотских складах. За полгода я навёл флотский порядок в этом «тихом болоте», сам сидел на службе постоянно и заставил крутиться двух офицеров, нескольких мичманов и весь личный состав. Ввел чёткую организацию и планирование, подготовил и сдал задачи №1 и №2 впервые в истории арсенала на «хорошо» и ждал снятия взыскания Главкомом. Душевный надлом сказался — иногда я стал выпивать, «заливать горе». Штабная служба. Вернуться было нелегко
В начале 1967 года сформировалась 14 дивизия ПЛ, и мне забронировали место начальника разведки. Держали эту должность до ноября, когда Главком всё же снял взыскание, и я был возвращён из «ссылки». Только принялся за работу, имея планов громадьё, как на это же место Москва назначает капитана 1 ранга Савченко из Средиземноморской эскадры, заболевшего раком горла. К нему я не имел никаких претензий, ибо с каждым может случиться. Я уже ничему не удивился. Поговорил по телефону с Володей Гариным. Он мне объяснил, что это личное указание Главкома и передокладывать, что место уже занято, никто не будет (лить на себя же), поэтому «потерпи, мы тебя не забудем». Пришлось мне несколько месяцев покрутиться в должности старшего помощника начальника штаба по боевой подготовке и оперативной части — очень хлопотливой, связанной с планированием. Савченко уволили по болезни, он осел на долечивание в Дубне, а меня восстановили в прежней и желанной должности начальника разведки.
Служу начальником разведки дивизии подводных лодок
14 дивизия просуществовала 29 лет, из них 13 — моих (1967-1980 годы). Коллектив офицеров-флагспециалистов менялся, но традиции и дух оставались неизменными: дружба, помощь друг другу, взаимопонимание и взаимодействие. Интриг, подсиживаний не было (я говорю только о штабе, без политотдела и только о «моём» периоде до 1980 года). Командиры дивизии Лазарев Г.В., Герой Советского Союза Герасимов В.И., Кобельский Л.И., Алексеев С.Г. и начальники штаба Самойлов В.А., Синельников В.И., Кобельский Л.И., Алексеев С.Г., Рябинин И.И. — назначались, «правили», вносили свои новшества и характеры, но штаб держался стойко, поддерживал своих командиров и даже выдвигал начальников штабов в комдивы, а комдивов ещё выше. В те годы в дивизии насчитывалось более 50-ти лодок, из них в среднем 20 боевых, 10-15 опытовых, а остальные — в длительном отстое-ремонте и консервации. Торпедные лодки проектов 613, 613-В, 611, 641, 641-Б, А-615, 690 и ракетные проектов 644, 651, 629, дислоцировались по всему Чёрному морю: в Балаклаве и Севастополе — по одной боевой бригаде, в Феодосии — бригада опытовых ПЛ, в Одессе — консервация. Кроме того. в Балаклаве находились ПЛ А-615 проекта, положение которых в связи с их прозвищем — «зажигалки», было долгое время неопределенным. Нумерация бригад и дивизионов, а также место их дислокации, за тринадцать лет менялись несколько раз. Управлять таким «табором», таким разнообразным и разнонаправленным «войском» было сложновато. Составлять и увязывать годовой план использования лодок было трудно, а выполнять его — ещё труднее. Необходимо было обеспечить и боевую службу (в том числе в Средиземном море), и боевое дежурство, и боевую подготовку свою и других соединений флота, и науку — «большого спрута», щупальца которого были обвешаны табличками «распоряжение ГШ ВМФ», «директива ГК ВМФ», «приказ МО» и тому подобными. Отбиваться было небезопасно. Кроме того, надо было активно участвовать и во флотских мероприятиях: учениях, штабных тренировках, сбор-походах, инспекциях. Каждое политическое «затмение» отражалось и на дивизии (развёртывание на позиции), особенно часто «трепали» нас арабо-израильские события. Поэтому штаб не сидел в кабинетах, постоянно крутился в деле: то готовим, проверяем или предъявляем лодку к БС или БД, то проводим учения соединения, то «отдуваемся» на ЗКП флота в Верхне-Садовом. Наши доклады решений на боевые действия ПЛ и взаимодействующих сил проходили всегда с первого раза на «5» или на «4», а готовил их весь штаб. Схемы, расчеты боевых возможностей и соотношения сил ложились на плечи Ф-1 (Вити Вайсмана, Бори Соленикова, Вали Шнеера — нашего выпускника 1955 года, сейчас он в Ленинграде), Ф-3 (Валеры Снопикова — выпуск 1954 года, сейчас тоже в Ленинграде) и мои — начальника разведки. В 70-80-х годах мы превосходили турецкие ВМС, усиленные 6-м флотом США, в три раза, а теперь — подумать страшно — наоборот! Кроме общего решения начальника разведки, со своим помощником по радио- и радиотехнической разведке готовил отдельно решение на разведку. Это, так сказать, оперативная часть моих обязанностей. Добавить надо, что решения были не только на бумаге — они выполнялись в море. Штаб управлял в последнее время и своими лодками, и взаимодействующими силами: самолётами морской ракетной авиации, ракетными кораблями и катерами и другими силами. Моя основная задача заключалась в том, чтобы офицеры знали вероятного противника, сигнальщики, радиометристы и гидроакустики умели различать его и, как результат, командиры лодок могли грамотно вести разведку и поиск противника и успешно атаковать его.
Начальником разведки работал увлеченно и с полной отдачей
Разведподготовка у меня была организована централизованно: я ставил задачи каждой бригаде, каждой лодке, проводил сборы, ежегодно издавал или корректировал сборник материалов по разведке (семинары, справочники, таблицы). Часть материала печатал, а часть внедрял в виде удобно скомпонованных фотоальбомов. Постоянно давал текущую обстановку по Средиземноморскому театру, которая велась на КП дивизии. На лодках эту разжёванную пищу оставалось только проглотить. На проверках, в том числе и московских, в основном успешно отвечали на «4» и «5». К этому привыкли, и в дальнейшем проверки стали контрольными — проверялись пара лодок на выбор, один-два штаба и всё это за один день. В дивизии мы (я — как общий руководитель, а мой помощник Лёша Когомцев — как непосредственный созидатель) организовали нештатный приёмный центр на пять-десять постов с антенным полем. Собрав всех ОСНАЗовцев с лодок под своё крыло, мы вели радиоразведку интересующих нас объектов — турецких, греческих ВМС и 6-го флота США. По оценке флотского начальства — неплохо. По Турции мы были зачастую единственным источником информации, так как у наших «старичков»-мичманов были свои персональные секреты разгадывания. Кроме того, мы формировали группы ОСНАЗ и посылали их на лодках на боевую службу. Они привозили интересный материал. Словом, всё было «0'кей!» — мы на хорошем счету, на высоком уровне. Работал я с удовольствием, разнообразно, с оперативно-тактической искоркой, инициативно, что не всегда нравилось начальству. И никуда не хотел уходить.
Куда не хотел, — тянули
В один из периодов, когда я оставался за начальника штаба дивизии (иногда сроком до полугода и даже однажды получил взыскание от НШ флота — значит, признавали), я докладывал решение на боевые действия подводных лодок дивизии. Меня приметил начальник штаба флота и дал команду кадровикам поработать со мной. Они нашли меня в Ленинграде, в отпуске, и начали уговаривать перейти служить на командный пункт флота. Я отказался, сославшись на свою невыдержанность и неуважение к начальству, которые у меня действительно иногда проявлялись.
Докладываю командиру дивизии задание на разведку подводным лодкам, выходящим на боевую службу в Средиземное море
Я пытался продвинуться только по специальности. Один раз — на эскадру в Полярное, но взвесив всё, сам передумал, и Валера Поздняков в Москве «вырвал» приказ о назначении из папки «на подпись Главкому». Дважды «прорывался» на камчатские флотилии. Первый раз тамошний коллега не согласился идти по обмену на должность ниже: с флотилии на дивизию, а второй раз меня не отдало моё местное начальство. Таким образом, куда не хотел — тянули, настаивали, а куда хотел — не пустили.
Будучи оперативным дежурным, иногда узнаёшь интересную информацию о себе
О том, что не пустили, узнал совершенно случайно. Стою оперативным дежурным дивизии. Раздаётся звонок белого телефона «ВЧ» через «компас» (Москва). Отдел кадров ТОФ просит комдива Алексеева на разговор. Узнаю голос Толи Шебанина и, зная, что бумаги на перевод пошли, спрашиваю, как мои дела. Толя удивленно восклицает: — «Так твои там что-то тебя не отпускают» (проговорился!). Никто меня не вызывал, со мной не беседовал, не говорил об отказе — так всё молчком, на «тормозах». А вроде бы Стас Алексеев считался, если не другом, то близким товарищем. Вместе командирствовали, жили в одном доме, жёны совместно кроили наряды, даже переписывались по праздникам, когда он был начальником штаба бригады в Магадане. Исходя из афоризма: «Что ни делается — всё делается к лучшему», может быть, действительно лучше, что я не попал на Камчатку, хотя очень хотел побывать там и послужить в тех краях.
Штабная служба не легче
Утверждать, что служба в штабе была легче, чем на лодках, не могу. Конечно, стол в кабинете не качался и «фейс» не кололи ледяные брызги, но... В море флагманские специалисты выходили как в составе групп управления лодками (походный штаб), так и одиночно на отдельных подводных лодках. Как-то раз я вышел в море на лодке «не боевой» феодосийской бригады. Командир был не очень решительный, так как не имел большого опыта боевой службы. Задачей похода была разведка заходившего в Чёрное море отряда боевых кораблей 6-го флота США. Чтобы «ухватить» корабли безошибочно, я уговорил командира нарушить 24-мильную зону. Госграница Турции — 3 мили, по «взаимности» — 12 миль, а наш Главком разрешал не менее 24-х миль. Практически взяв на себя командование лодкой, залез почти в «дырку» Босфора. За два часа, в течение которых я наблюдал американцев, дал восемь донесений, благодаря которым и лодки наших завес навелись, и корабли слежения пристроились. Наши донесения оказались единственными, так как авиация не летала из-за плохой погоды. И такие «хулиганства» были в моей практике не один раз. Во время учений любого ранга и масштаба штаб делился на три части: одна — управление дивизией и несение оперативного дежурства в Балаклавской штольне на защищённом КП; вторая — ведение обстановки и управление лодками, в том числе и средиземноморскими на ЗКП флота в Верхне-Садовом; и третья — управление лодками и сбор данных от них на атакуемом крейсере или походный штаб на какой-нибудь плавбазе или судне. Постоянные наши собственные проверки и прикрытие подчиненных нам штабов и лодок от вышестоящих «копателей» были связаны с выездами на места, в том числе в Феодосию, и в Одессу. Нельзя сказать, что у офицеров штаба дивизии не было «любимого» личного состава. У меня, например, были в подчинении фотолаборатория, чертёжники и НПЦ — это 20-40 ОСНАЗовцев, включая офицеров и мичманов. У других флагспецов — узел связи, шифрпост с приходящими на дежурство специалистами, кабинеты с постоянными «лаборантами» — штабными разгильдяями. За подчиненных по своим специальностям на соединениях мы тоже отвечали.
Радости жизни
Да, нагрузка была большая, но отпуска получали всегда в удобное время — летом. Только Ф-3 Валера Снопиков любил отгуливать в начале года. Он говорил: — «А вдруг война начнётся, а отпуск не использован!». Конечно, были один-три чистых выходных дня в месяц, когда можно было сесть на катер и укатить на ночёвку в Батилиман или прокатиться на машине по Южному берегу Крыма. Я приобрёл первые «Жигули» ВАЗ-2101 в 1971 году, вторые ВАЗ-2103 — в 1976 году. Всегда пользовался любой возможностью, любой свободной минуткой, чтобы вечерком с семьёй смотаться на пляж в Ласпи или прокатиться по «бермудскому треугольнику» — вдоль ЮБК через Ялту, Алушту и перевал в Симферополь или через Ай-Петри и Куйбышевскую долину домой, на Севастополь.
Балаклава. Золотой пляж. Так я воспитывал своего наследника
Ежегодно до 1979 года, когда появился внук, мы ездили в отпуска всей семьёй и в Молдавию, и в Закарпатье, на Кавказ до Сухуми, в Ленинград и Прибалтику через Москву или Киев. Впечатлений и фотографий — масса, а ещё больше заряда бодрости на год как от природы, так и от встреч с родственниками. Сейчас этого нет совсем и нет возможности.
Пенсион активный и не очень. Жизнь продолжается.
На четыре года я «пересидел» свой возраст выхода на пенсию (45 лет), так как и сам боялся (а как там на гражданка?!), и не хотели отпускать. 1 сентября 1980 года состоялся прощальный банкет. Было много приятных, но не льстивых речей, адресов, грамот, подарков, заверений от нашего штаба, командования и моих разведчиков, и, конечно же, была ветеранская медаль. А ещё до ноябрьских праздников я начал работать в гидрографии Черноморского флота на судах сначала штурманом, затем старпомом, и сразу же сдал документы на открытие визы. За три года я переменил несколько судов ГС-401, ГС-402, «Лиман», «Айтодор» и облазил все закоулки Чёрного моря от кавказских до дунайских и днепробугских. На гидрографических судах ходили на промеры глубин, замеры гидрологии, обеспечивали различные флотские учения в качестве навигационного проводника. Работали с «наукой», даже снимались в кино для рекламы и обоснования выдвижения на госпремию эхолота бокового обзора. Возили навигационные грузы: ацетон, буи, якоря, карты, стеллажи, а также семьи начальников в различные гидрографические районы и на маяки Чёрного моря и делали многое другое. Всё это время мне «тянули» открытие визы со ссылкой на «обладание» государственной тайной, поэтому и переводили с судна на судно. Наконец, я, плюнув на военных, открыл визу через гидрофизический институт, то есть через тот же Крымский обком, и устроился на научно-исследовательское судно «Евпатория» Сибирского отделения Академии наук СССР, на котором побывал в должностях от четвёртого до второго помощника капитана. Дольше всего, что и «любезнее» моему характеру, был третьим помощником капитана: карты, штурманские приборы и никакого личного состава — это моя стихия!
В родной стихии
Работа на «гражданке» сразу поразила своим спокойствием, размеренностью, неутомительностью, хотя и в гидрографии бывали «вводные». Научно-исследователькое судно «Евпатория» (бывший рыболовный морозильный траулер) подчинялся Вычислительному центру Сибирского отделения АН СССР. Планирование работ и снабжение экспедиций шло оттуда. Рейсы продолжительностью от 30 до 70 суток по всему Чёрному морю с заходами в Болгарию. Поэтому получали валюту в виде «бон», что являлось хорошим подспорьем и поводом для торжественных семейных посещений валютного магазина. Зимой стояли, что-то ремонтировали, что-то переделывали, модернизировали. Отпуска с отгулами получались по три-четыре месяца. Конечно, успевали съездить в Ленинград. Штурманская, судоводительская работа на этом судне требовала большой точности для науки. Достаточно сказать, что ошибка в определении места по японской спутниковой системе не превышала 16 метров. При постановке — снятию буев, маневрировании с кабелем за кормой, длинною 2000 метров, между сваями бывших газовых вышек «Сиваш» или в потоке шныряющих судов приходилось «изворачиваться» до пота. Иногда — спокойное удержание одного курса. Надо смотреть только, чтобы «купцы» не наехали на кабель. Приходилось отгонять их по радио УКВ «на всех языках». Когда брали пробы грунта на стопе, позволяли себе всеобщее купание прямо в центре моря. В состав экспедиций входили как новосибирские, ленинградские и московские учёные из различных НИИ, так и болгары, по заказу которых мы и работали, поэтому экспедиции громко назывались «международными». Об особенностях работы судоводителей научно-исследовательских судов я даже написал статью, хотел протолкнуть её в журнал «Морской флот», но напечатана она была только в сборнике, издаваемом Сибирским отделением АН СССР. Так можно плавать всю жизнь
На этом судне можно было плавать до конца дней своих, поскольку напряженная работа умело и достаточно сочеталась с отдыхом. Двухдневные заходы в Варну были через каждые 10 суток плавания и более продолжительные — через 70 суток. Всё зависело от задач той или иной экспедиции. Научный состав в основном был постоянным, но в каждой последующей экспедиции появлялись новые лица. Было очень приятно встретить старых друзей и познакомиться с новичками. Люди науки всегда интересны, разнообразны, неординарны, и быть с ними рядом всегда познавательно. Один незаметный и какой-то «затёртый» мужичок, обслуживающий бортовую ЭВМ, очень часто «загуливал». К этому привыкли все. Каково же было моё удивление, когда я увидел его загорающим на шлюпочной палубе и читающим какую-то художественную книгу на английском языке. Оказывается, он прекрасно знает язык! Вот пример неожиданного поворота в оценке человека (внешность обманчива). Каждый заход в Варну был наполнен не только «Слынчев Брягом», а пили в экспедиции широко и громко, но и экскурсиями, организуемыми болгарским Госкомитетом геологии, на который мы работали. Мы посетили все бывшие исторические столицы, которых в Болгарии немыслимое количество, музей юмора в Габрово, Кошну, Пловдив, Толбухин, все «Златни Пясыци», «Дружбу», Солнечный берег от Албены-Вальчика на востоке до Несебыра-Бургаса на юге.
Счастлив тем, что много путешествовал.
Хочу сказать, что меня в «загранке» интересовали не только шмотки, но и «картинки». Я никогда ни раньше, ни позже не жалел скудной валюты на экскурсии и посещение достопримечательностей и музеев. В 1956 году немножко и недалеко покатался по Голландии вдвоем с Толей Шебаниным. При стоянке в Кейптауне посещали краеведческий музей, художественную выставку импрессионистов и всяческих кубистов, проехались в заповедник на мыс Доброй Надежды. В период плавания на торговых судах 1959-1961 годах в Венеции был на острове Лидо и во Дворце Дождей, в Генуе – в музее Христофора Колумба и на кладбище Кампо-Санта, трижды бродил в развалинах Помпеи, ездил любоваться на кратеры Этны.
1961 год. Я и мой друг, кок с теплохода «Фатеж», кормим голубей на площади Святого Марка в Венеции
В Албании и Новой Гвинее объездил полстраны. В Росарио (Аргентина) побывал в местном музее. Позднее в 1988-1989 годах покатали нас по всему Карачи (Пакистан) с посещением храмов и музеев. В Сирии ездили в шоп-экскурсии из Тартуса в Латакию, Хомск и еще куда-то. Это, не считая того, что в каждом порту, где стояли, мы ходили пешком и в центр, и на самые дальние окраины городов, посещая по пути не только магазины, но и парки, музеи. Так что было много красочных «картинок».
Генуя, 1962 год. Кладбище Кампо-Санта
Когда началась горбачевская перестройка, «наука» зашаталась. Сибирское отделение АН СССР должно было получить новое научное судно в Польше (был заказ на шесть-восемь судов), на которое предлагалось пересадить экипаж «Евпатории» полностью. Но… от судна отказались из-за отсутствия финансов и по этой же причине продали НИС «Евпатория» «на иголки», то есть на металлолом. Последний рейс мы совершали в октябре 1988 года, когда вы, мои однокашники, встречались, отмечая 35-летие окончания училища. Провели мы свою «кормилицу» через Средиземное море, Суэцкий канал, Индийский океан в Карачи, и там судно было выброшено на берег, а мы, неделю «покайфовав» в гостинице на командировочной валюте, возвратились на самолете в Москву. Служба на спасателе
Поискав еще немного новую работу, а мне уже исполнилось 57 лет -- возраст весьма солидный для мореплавателя, я устроился в аварийно-спасательную службу (АСС) Черноморского флота старпомом на спасательный буксир «Орион». Работа в АСС напоминала военную службу по готовности № 1, то есть по боевой тревоге. В дежурство по флоту заступали на неделю через две, но это по графику, а в жизни – наоборот. При этом на буксире сидят или все, или половина экипажа, способного обеспечивать выход из базы за 30 минут, переход, оказание помощи и спасение в любой зоне ЧФ и даже у Босфора. Если по флоту или главной базе объявлена готовность № 3, то у нас в АСС – готовность № 2, то есть с вызовом личного состава на суда. Во второй половине 1989 года сходили на боевую службу в Средиземное море, побывали с эскадрой во всех точках стоянки в его восточной части, зашли в небольшой греческий порт Каламанта и затем, выработав моторесурс, месяц стояли в Тартусе. Берусь утверждать, что на боевой службе было легче и интересней, чем в родной главной базе Севастополе. В море -- размеренные вахты, режим, всегда на работе (ездить не надо!), учения и другие мероприятия проводить легко – все люди на месте. Не надо их собирать (или приводить в чувство), чтобы по команде ОД походного штаба принять на борт продукты или молодое пополнение и развезти по кораблям. Завелись, снялись и пошли. Обычно мы работали, когда ветерок свежел, и корабельные плавсредства не могли сами выполнять перевозки, поэтому попадали в переделки. Стоять у крейсерского борта при волне «до мостика» неприятно, напряженно и опасно, а если еще и высаживать по штормтрапу людей! Однажды мы так «прислонились» к высокому борту, что нактоуз на правом крыле мостика согнуло на 90° (из вертикали в горизонталь), шлюпку разбило в щепки, шлюпбалку деформировало, а в помещении барокамеры вогнуло шпангоуты. В другой раз при отходе от эсминца намотали на винт сетку, спущенную за его борт для купания личного состава. Стояли на месте, покоряясь судьбе, до того как погода позволила спустить водолазов. Были и другие эпизоды, когда надо было проявить железную выдержку и «хорошую морскую практику». Сейчас вспоминаешь -- вздрагиваешь и не веришь, что это было с тобой и было на самом деле.
Естественный финал
В середине 1990 года буксир был поставлен на ремонт в завод «Флотский арсенал» в близкой и знакомой Варне. Когда всё раскидали по винтикам и растащили по цехам, начался период перехода на взаиморасчеты между СССР и Болгарией в долларах, и, соответственно, началась корректировка ремонтной ведомости в сторону сокращения работ. Я «воевал» с военпредами, которым эта подлая миссия была поручена, кое-что отстоял, что-то переложили на плечи экипажа буксира, а на что-то пришлось положить крест. Зимой свалилась другая напасть — отсутствие продуктов. Не только сырокопчёной колбасы, но и обыкновенных капусты и картошки, так как болгары снабжать нас перестали, а подвоз из Севастополя прекратился. Шёл снег, стало холодно, а сквозь дырки в бортах и подволоках кают свисали крысиные хвосты. На буксире осталось менее половины штатного экипажа, так как уехавшие в отпуск не могли возвратиться из-за отсутствия оказии. Потом, конечно, всё наладилось, но это был очень трудный период. Я загрустил, перспектива окончания ремонта отодвигалась всё дальше и дальше, валютные магазины в Союзе закрывались, а об оплате в долларах ещё не было слышно. К лету должны были приехать дочка с внуками из Западной Лицы. Всё это привело к мысли: — «А чего я здесь сижу?!» и к решению «завязать». К маю 1991 года я на чужом судне возвратился из Болгарии и рассчитался с морской работой. Было мне в ту пору почти 60 лет, так что воинский и трудовой долг перед Родиной я выполнил полностью.
Завершение славного пути «от старшего офицера до старшего матроса»
Собрав всё то, что мне должно было государство, я окунулся в достройку дачи и рассчитался с рабочими. Получая вполне приличную пенсию, год не работал, наслаждался природой, семьёй, внуками, дачей и машиной. Но... началась та самая чехарда! Инфляция стала перепрыгивать цены. Могу заметить, что я ничего не потерял по вкладу в сберкассу, потому что всё было уже вложено в камни на даче. Денег стало катастрофически не хватать. Поэтому нашёл рядовое место на плавдоке (как никак «при море») и продался за продпаек, что в то переходное время было ощутимым подспорьем, и, главное, постоянным (вспомните талоны на 1 килограмм мяса и 200 грамм масла в месяц). Наш плавдок сначала стоял в Балаклаве в пяти минутах ходьбы от дома (фактически!), затем его перетащили в Северную бухту (бухту Троицкую), ближе к Инкерману. Стало не так беззаботно, а значит хуже: надо было ездить (а не ходить!) на вахту, тащить с собой судочки с едой (а не забегать домой на обед и ужин), ну и тому подобное. Однако, хуже стало везде: корабли и суда перестали плавать и получать валюту, а затем и зарплату, безработица возросла, а жизненный уровень упал. Рабочее место человеку моего возраста найти практически невозможно, а заниматься бизнесом я не приспособлен, не умею, не научен да и стар. Поэтому продолжаю трудиться на плавдоке, где есть свои плюсы, основной из которых — трое свободных суток между вахтами. Вероятно, от всех внешних катаклизмов в жизни растерзанной страны и своих внутренних переживаний от этого, в январе 1995 года я получил инфаркт, что дало повод окончательно бросить курить. Почему я не сделал этого раньше?! К маю выкарабкался и, чуть оклемавшись, продолжаю трудиться и молодиться.
Философские раздумья. Всё получилось
Доволен ли я пройденным жизненным путем? Пожалуй, да: я ещё жив и это главное; сам, жена, дети и внуки — не уроды и не хроники; жилищно и материально обеспечен средне, но постоянно; имеется прекрасная дача на мысе Фиолент в кооперативе, называемом в народе "Царским селом"; "Жигуль-2103" ещё бегает, несмотря на весьма почтенный возраст — 21 год. Своего возраста не чувствую или просто стараюсь не замечать. Пенсия примерно 150 долларов (в России 200 долларов) и работа даёт в месяц ещё одну пенсию, иногда чуть больше, иногда меньше. Маловато, конечно, по сравнению с американским бывшим командиром субмарины, но значительно больше, чем у бывших рабочих и ветеранов на Украине (25-35 долларов по состоянию на сентябрь 1997 года). Не престижная, не офисная работа на доке: суточные дежурства через трое на четвертые сутки плюс три-пять рабочих дней в месяц на доковые операции, проверки, зачёты и другие общие мероприятия. Такой режим работы позволяет заниматься дачей, но только для самоудовлетворения и здоровья. Двухэтажный дом я успел возвести и отштукатурить ещё в 1991 году на валюту и деньги, заработанные в море. В последующие годы потихоньку по мере сил и материальных возможностей приводил внутренности в обитаемый и эстетический вид (полы, потолки, стены-обои, лестница, стёкла, решётки) и обустраивал участок. Клубнику, черешню, персики, виноград едим «от пуза» и всякой зеленью обеспечены. Конечно, это большое, ощутимое подспорье для всех трёх семей: дочки с зятем и внуками, сына с невесткой (пока без детей) и для нас. В расчёте на них (детей и внуков) и строилась дача, но, к сожалению, реально помогает только сын своим мастерством деревянщика, сварщика и вообще мастера на все руки. Надеюсь, другие родственники оценят воздвигнутое нами после...
Дом построен, деревья посажены, дети выращены. Чего еще желать! Моя жена и я на даче в “Царском Селе”
« Жизнь прожить — не поле перейти»
Конечно, я мечтал о большом командирском пути. Не получилось из-за аварии 1966 года (возгорание торпеды и пожар в 1-м отсеке). После увольнения в запас в 1980 году на семейном совете поднимался вопрос о переезде в Ленинград, но детки, родившиеся в Балаклаве, не проявили особого интереса, хотя и считают Питер своим вторым родным городом. А нам — родителям жалко было бросать недавно полученную трёхкомнатную квартиру улучшенного проекта, гараж в десяти минутах ходьбы от дома и вообще Крым. Никто же не предполагал, что раздел, ров будет становиться всё глубже, а визиты в Ленинград всё реже и труднее. В конце 80-х годов вспыхнула надежда, когда зятя оставляли на преподавательскую работу в Медицинской академии, но чьим-то вышестоящим волевым решением его отправили в Западную Лицу. Моя Родина — Ленинград, в Питере прошли детство, юность. И взрослая жизнь была тесно связана с ним. но я люблю и Крым, наш русский город Севастополь и уютное гнёздышко не только для рыб — Балаклаву (греческое название — «рыбье гнездо»). Если не обострять особо, не заклиниваться, не ныть о прошлом, о Питере, — жить можно! Я — оптимист и надеюсь, что здравый смыл победит националистическую дурость. Между Россией и Украиной наступит эра европейского содружества. Однако, боюсь, что будет это после... Всем друзьям — подготам пламенный, горячий по южному привет и сердечные пожелания жить активно до ста лет! Составление жизненного отчета и его переписка начисто закончены 18 сентября 1997 года — за десять дней до моего 66-летия.
Р.S. Еще кое-что для размышлений. Года два назад Балаклаву покинула последняя подводная лодка. Люди на набережной плакали: не только женщины, но и у нас — мужиков накатывалась «скупая мужская»... А сейчас у причала на той стороне стоит одна единственная ПЛ ВМС Украины. Как сказал Командующий ЧФ В.А. Кравченко в Черноморском флоте остаётся 155-я бригада ПЛ. В этой бригаде, базирующейся в Севастополе, было восемь подводных лодок. Одну отдали Украине, две списываются в ОФИ, итого остаток — пять ПЛ. Из них три опытовых и две в постоянной готовности. Из этих двух — одна «Варшавянка» вытягивает все учения и прочие мероприятия, и на ней держится бригада и береговая база. Вторая ПЛ, кажется, недвижима. А у турок сейчас 21 подводная лодка, из которых, наверное, десяток 209 проекта. Две ПЛ постоянно несут боевую службу в Чёрном море, вероятно, у наших берегов.
Обидно, когда рушиться дело, которому ты посвятил и отдал практически всю жизнь. А Севастополь всё более заставляют забывать о традициях российского флота. Слова «Легендарный Севастополь — гордость русских моряков» звучат всё реже и реже. Стараемся бороться, но и взываем к Вам: «Спасите нас, спасайте Севастополь!».
Еще раз (и много раз!) жму Ваши подготские лапы!
Севастополь. Сентябрь 1997 года. |